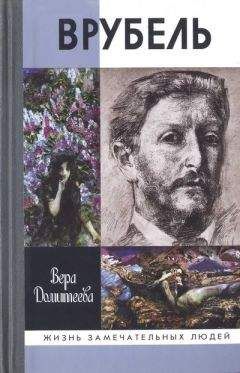В точности неизвестно, как и даже когда они встретились; официально Врубель начал заниматься в классе Чистякова осенью 1882 года, но, учитывая дружбу с Бруни и Савинским, мог бывать в личной чистяковской мастерской гораздо раньше. (Скорее всего, и бывал: сам он упоминает все-таки о четырех, не только о последних двух своих академических годах в натурном классе Чистякова.) Любопытно, пришлось ли ему тоже пройти знаменитый обряд изгнания амбиций, которому Павел Петрович подвергал впервые пришедших к нему художников, и только начинающих, и уже пишущих картины. Столько раз пересказано, как педагог предлагает нарисовать с натуры что-нибудь совсем простенькое: коробок спичек, карандаш, листок бумаги, скомканный платок — и каким конфузом ученика завершается вводный урок на тему «рисунок — дело сложное». Во всяком случае, одной из важнейших заслуг Чистякова Врубель отметил умение «удивительно быстро развенчать в глазах каждого неофита мечты картинного мастерства».
Что до известных случаев с коварным предложением показать для начала, в самом примитивном упражнении, свой рисовальный навык, полностью не оскандалился, кажется, только юный Серов (хотя и тут описаны разные версии). Так ведь какая подготовка у Серова: с раннего детства занятия в Мюнхене под руководством Кёппинга, с девяти лет под крылом Репина. Илья Ефимович и направил любимца к «нашему единственному всеобщему учителю».
Невероятно, чтобы выпало такое двойное везение: наставником — Павел Петрович Чистяков, а товарищем — сдавший экзамены в Академию художеств одновременно с Врубелем Валентин Серов. Впрочем, мудрецы давно твердят, что, как только займешься своим делом, всё странным образом изменится и будет помогать тебе.
Сразу Врубелю с Серовым сблизиться, конечно, было сложно, разница в возрасте огромная: Врубелю уже двадцать пятый год, а Серову шестнадцати-то еще не исполнилось. И вообще непохожи. Скромного вида коренастый крепыш Серов, еще маленьким мальчиком бесповоротно, не по-детски повернувший на путь художника, — и обаятельный франт, худощаво элегантный, с изящными манерами Врубель. Его начитанность, литературность, блестяще пройденный курс гимназических наук, увлечение Гомером и латынью — и подросток Серов, который знать ничего не хотел кроме карандашей и палитры, мучил мать отказом хоть сколько-то заняться изучением общеобразовательных предметов и осчастливил ее, когда лишь накануне поступления в академию «стал увлекаться чтением». Врожденное упорство в достижении цели у Серова — широкое эстетство, долгий период туманных художественных грез у Врубеля…
Стоп, не туда: что-то в духе заглавия просветительского романа «Твердость и легкомыслие». Общего, разумеется, было больше, гораздо больше, так много, что вскоре Врубель напишет сестре о Серове: «Мы очень сошлись. Дороги наши одинаковые, и взгляды как-то вырабатываются параллельно».
Неудивительно. Сходство у них различается даже на уровне органики.
Оба в самом раннем детстве со странностями; оба с некоторой трудностью, с какой-то заминкой встраивались в жизнь. Врубель почти до трех лет не ходил, не проявлял естественного ребяческого желания кричать и беспрерывно лопотать, говорил очень мало. Серов того хуже: речь ему поначалу вообще не давалась. «Не говорит, да и только. Кроме звуков „му“ и „бу“, ничего не мог произнести. Когда ему минуло два года, я стала советоваться с опытными матерями, — пишет в воспоминаниях о своем первенце Валентина Семеновна Серова, — пришлось долго возиться, пока он усвоил себе несколько слогов». Далее рассказано о периодически нападавших на сына, словно бы тормозивших его моментах, «когда какая-то вялость, умственная неповоротливость мешала ему осиливать самые обыкновенные затруднения. Миновав такие периоды, он снова входил в норму и проявлял остроумие, понятливость, а главное — феноменальную наблюдательность». Нечто аналогичное в тревоживших родителей, внезапно охватывавших гимназиста Врубеля приступах упадка чувств, безмысленного оцепенения. Насчет общей, сменявшей фазу апатии феноменальной наблюдательности этих будущих великих художников говорить не приходится. Так же как о безусловно объединявшей их удивительной памяти, зоркости, чувстве пропорций и прочих обязательных слагаемых таланта изображать.
Да и столь явные контрастные черты молодого Врубеля и юного Серова — так ли контрастны? Баснословное усердие Серова, 100 раз исправлявшего, до дыр протиравшего свои рисунки. А та многодневная усидчивость, с которой Врубель отделывал акварель для французских артистов и тщательные живописные копии, вытачивал складки драпировок, всякую мелкую предметную канитель на своих любительских иллюстрациях? Или вот гибкость натуры, более всего, кажется, отличающая Врубеля от Серова. Но Валентин Серов разве без гибкости? Свежо и вдумчиво писавший об искусстве (в частности, о Серове и Врубеле) замечательный, рано погибший критик Всеволод Дмитриев особым даром Серова определил именно «гибкую приспособляемость во славу искусства», умение увидеть сильнейших и проникнуть в их ремесло, будь то Репин, Врубель, Константин Коровин, Диего Веласкес или Андерс Цорн. И не только в искусстве проявлялась пластичность Серова. С однокашниками по баварской народной школе он такой же отчаянный драчун, а в ласковом культурном мюнхенском семействе чарует милой застенчивостью. Хорошо известны его конфликты с матерью, но сколь бы ни пеняла Валентина Семеновна на упрямый нрав сына, понятно, что как раз это дурное качество ей лично ближе, роднее и приятнее всех других и она втайне любуется своим упрямцем.
Краем коснувшись тут семейных отношений, невозможно пройти мимо параллели в обстоятельствах, формировавших характеры Врубеля и Серова.
Жизнь у них начиналась в атмосфере достаточно близкой, если иметь в виду безусловный для родителей того и другого приоритет высокой культуры, хотя в среде по тону разной настолько, насколько семейный уклад интеллигентного военного мог отличаться от обихода в доме знаменитого композитора, дружески общавшегося с Тургеневым, Островским или Рихардом Вагнером. Притом бросается в глаза одинаковый первый драматичный узел биографии: Врубель в трехлетием возрасте потерял мать; Серову не было пяти, когда он лишился отца. Доставшееся каждому полусиротство, несомненно, вплелось в характер погруженного в себя малолетнего «молчуна и философа» Врубеля и чрезвычайно замкнутого в детстве Серова, который крайне редко позволял матери «заглянуть в сокровенные уголки своей душевной жизни». И выходили из отъединенности они похоже: волной хлынувшего наружу артистизма, изобретательного, обильно подпитанного ресурсом присущих им обоим актерских и юмористических наклонностей.
Ирония скептичного Серова хорошо известна, прекрасно читается в его рисунках к басням, отчетливо витает в массе его портретов. Насмешливо-саркастичный взгляд Врубеля заметен лишь в его словесных рассуждениях, в творчестве вроде бы не отображен. Однако были и у Врубеля шаржи, забавные рисунки, иногда известные по мемуарам (вроде самых первых, именно комических зарисовок, о которых упоминает сестра), почти целиком бесследно канувшие с ворохами совершенно не ценимых автором набросков, но в редких случаях все же кое-кем сохраненные. Сохранились они и от университетских дней, и от тоскливых месяцев послеуниверситетской службы в Военно-судном управлении (воинская повинность, увенчанная чином бомбардира запаса, она же последняя, из уважения к отцу, проба обжиться в юридическом ведомстве), и от периода молодой дружбы с Серовым, и от более поздних лет вплоть до карикатур, неожиданно вкрапленных в творчество самого черного, самого тяжкого финального этапа. Без юмора не жилось ни ипохондрику Серову, ни меланхолику Врубелю. Юмором от рождения до конца пути полны были оба.
Опять перебор: теперь уже не Серов и Врубель, а прямо-таки братья-близнецы. Впрочем, на довольно продолжительный срок их отношения действительно напоминают братство, старшинство в котором и по годам, и по успехам в академической учебе, естественно, у Врубеля.
А Врубель той поры — даже трудно выразить степень его восторженного чувства — всецело предан, всей душой привержен урокам, мнениям, суждениям Павла Петровича Чистякова.
В желании приоткрыть тайны врубелевской натуры важный вопрос — чем покорил Чистяков. Такое в опыте Врубеля впервые и никогда больше не повторится: безусловное доверие к безусловному авторитету. Предположить, что всегда, не без надменной обособленности, возражавший вкусам сверстников Михаил Врубель просто-напросто вслед за Бруни и Савинским разделил коллективное обожание учителя, невозможно. Что же околдовало гордеца? Ответ напрашивается, если не упускать из виду насквозь пропитавшую его книжную поэтику и представить впечатление, которое произвела на него встреченная вживе фантастически оригинальная личность с переливами отваги неистового Роланда, благородства короля Артура, чувствительности Вертера и практичности хитроумного Одиссея.