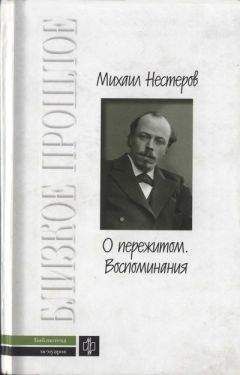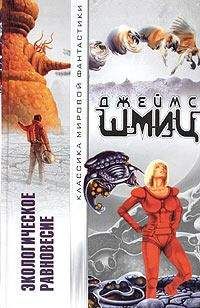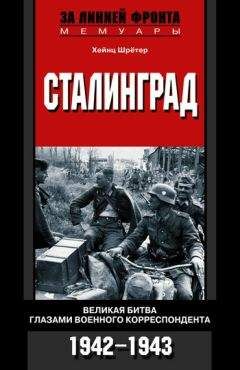Ознакомительная версия.
В тот день много чудес перевидали мы с Ванечкой. Не помню, ели ли мы или питались только восторгами от петербургских красот. Дня через два-три узнали, что мы приняты, так, как и ожидали. Наняли себе на Острове комнату, а скоро начались и занятия.
Академия после Училища нам не понравилась. Огромные коридоры обдавали холодом. Во всем было что-то официальное, казенное, не было и следа той патриархальной простоты, что в Московском Училище. Вицмундиры профессоров, их мало популярные имена — Вениг, Шамшин, фон-Бок — после Перова, Прянишникова, Сорокина, Саврасова, нам ничего не говорили. Правда, тут был автор «Привала арестантов» — Якоби, но вид его нам показался несолидным.
О Чистякове же мы в Москве ничего не слыхали, а он-то и был тогда центром, желанной приманкой для многих. К нему тогда и шли все наиболее талантливые, все, кто хотел серьезно учиться живописи и рисунку.
В первый месяц дежурил Василий Петрович Верещагин — тихий незаметный человек, показавшийся нам после Перова таким скучным. Он мало с нами говорил, отношение к делу было совершенно формальное. Этюд я написал плохой, плох был и рисунок. Эскиза не подавал вовсе. Ничем на себя внимания не обратил. Для начала худо…
Второй месяц был месяц Якоби. Натуру поставил он, что называется, эффектно, но сам! На что он похож! Подвитой, раскрашенный, с эспаньолкой, в бархатном пиджаке, в гофрированной рубашке, в белом большом галстуке. Он разочаровал нас. Советы тоже поверхностные, несерьезные.
И у меня опять плохой этюд, плохой рисунок. Даже Ванечка Гугунава получил номер лучше меня.
Третий месяц. Третной. Дежурит утром Чистяков, вечером Шамшин. К Чистякову все льнут. Где он остановится, сядет, там толпа. Пробовал и я подходить, прислушивался, но то, что он говорил, так было непохоже на речи Перова. В словах Чистякова и помину не было о картинах, о том, что в картинах волнует нас, а говорилось о колорите, о форме, об анатомии. Говорилось какими-то прибаутками, полусловами. Все это мне не нравилось, и я недовольный отходил.
Душе моей Чистяков тогда не мог дать после Перова ничего. А то, что он давал другим, мне еще не было нужно, я не знал еще, как это будет необходимо на каждом шагу серьезной школы и что я постиг гораздо позже, когда усваивать это было куда трудней[65].
Петр Михайлович Шамшин (будущий ректор) был высокий, важный, медлительный старик сенаторского вида, бритый, наглухо застегнутый, корректный. Он подходил или, вернее, подсаживался к рисунку на вечеровом, брал от ученика папку и долго смотрел на рисунок и на натурщика, затем медленно, немного в нос, говорил почти всем одно и то же: «Да-с, изволите видеть, у нас с вами лодыжка не на месте». Поправлял лодыжку и продолжал: «Да-с, в наше время, изволите видеть, покойный Карл Павлович Брюллов говорил…» и т. д. Посидев около рисунка минут десять, переходил к следующему с более или менее однородными речами. Шамшин был добросовестный, но не талантливый человек, запоздавший на много лет со своими художественными взглядами, методами.
Ректором живописи был в первый и во второй год моего пребывания в Академии знаменитый гравер, современник Пушкина, глубокий старик Федор Иванович Иордан[66]. Федор Иванович по преклонности лет появлялся у нас очень редко и, говорят, мало уже вникал в дела Академии. И все же в месяц раз мы его видели в стенах Академии. Бывало, во время перерыва на вечеровом, когда из натурных классов повалят толпой в эскизный, а из него в огромные высокие коридоры, в конце такого коридора навстречу нам медленно двигалась процессия. Это шествовал ректор Иордан, а за ним инспектор классов П. А. Черкасов, кто-нибудь из профессоров и толпа академистов.
Федор Иванович — небольшой, совершенно белый старичок с розовым личиком, круглыми, от старости как бы остановившимися глазами, открытым ртом, напряженно слушал в приставленную к правому уху трубу, что ему кричал, докладывая, инспектор. По пути следования ректора мы все шпалерами останавливаемся у стен коридора, кланяемся ему, а он благосклонно нам отвечал. Федор Иванович шествовал в классы…
Вот что будто бы произошло года за два до смерти Федора Ивановича, что ходило среди нас, как забавный слух, но что выдавали тогда за истинное происшествие. Ф. И. Иордану было около восьмидесяти лет, и он однажды тяжело заболел. Президент Академии художеств в ближайший день доложил об этом Александру III. Государь выслушал, выразил сожаление и спросил, нельзя ли сделать для больного что-нибудь ему приятное. На следующем докладе Президент доложил Государю, что, по-видимому, больному было бы приятно получить чин Действительного Тайного Советника. Это был первый случай, обычно ректоры Академии кончали свою жизнь лишь «Тайными». Государь улыбнулся и приказал изготовить соответствующий рескрипт. И Федор Иванович, получив «действительного тайного», проболев еще немного, взял да и выздоровел и прожил в пожалованном высоком чине еще с год или больше…
Так или иначе, в Академии я не нашел желанного, и казалось, что Перов был прав. Однако я продолжал ходить в классы, писать плохие этюды и рисовать такие же рисунки.
Прошел учебный год. На последнем третном кое-кто из наших отличился, и, что самое обидное, мой приятель Гугунава получил малую медаль за этюд, и выходило так, что бесталанный Гугунава оказался достойнее меня, считавшегося способным…
С неспокойным чувством я ехал в Уфу. Лето там провел беспорядочно, много нервничал, скакал, как сумасшедший, на своей Гнедышке. Извозчики на бирже, мимо которых я проносился ураганом, кричали мне следом: «Смотри, Нестеров, сломаешь себе шею!» Конечно, к этому было достаточно случаев, летал я через голову моей лошадки не раз, но шея оставалась несломанной…
Так прошло лето. Я снова в Питере, снова в Академии. Я зол, все мне не по душе. Все и всех критикую, дело же ни с места.
Приятели-москвичи перегоняют меня по всей линии. Рябушкин получил медаль за эскиз[67]. Получил медаль за свое «Благовещение» Врубель. Я же, хотя за эту же тему и получил первую категорию, но не медаль. Да и не стоил мой эскиз медали; он был сделан весь по Доре, что тогда вообще практиковалось, но не поощрялось.
Врубель был ярый «чистяковец», и мне казались странными приемы его. Он, помню, сидел «в плафоне» натурщика (у его ног) и рисовал не всю фигуру, а отдельные части: руку с плечом в ракурсе или следок, но рисовал подробно, с большим знанием анатомии, воспроизводя не только внешний, видимый рисунок, но тот внутренний, невидимый, но существующий.
Этот метод — чистяковский — был нам, перовцам, совершенно непонятен, казался ненужным, отвлекающим внимание от целого, общего впечатления, и так как остальные профессора держались такого же мнения, то мы и рисовали по старинке, или, вернее, механически.
В ту же зиму я стал особенно задумываться о своей судьбе. Мне было уже двадцать лет, а в прошлом — одни неудачи и беспорядочная жизнь. Было от чего задуматься. В это тревожное время, кроме Паши Попова, меня всячески поддерживал и Ванечка Гугунава. Они не давали мне унывать, падать духом, утешали меня тем, что все это пройдет, что такое состояние временное и прочее, и прочее.
В Академии было правило: прежде чем писать программу на золотую медаль, необходимо было сделать копию в Эрмитаже с одного из великих мастеров. Я стал чаще и чаще ходить в Эрмитаж, пропуская этюдные классы.
В те времена там копировало много художников. Само собой, копии были разные, и хорошие, и так себе. Я подумал, отчего бы и мне не попробовать что-нибудь скопировать, не боги горшки обжигают… После долгого размышления я остановился на голландцах, на Метсю[68]. Заказал подрамок, достал разрешение и начал. Начал прилично и скоро этим увлекся.
Копия выходила неплохая, да и жизнь Эрмитажа мне нравилась больше и больше, а Академия все меньше и меньше… Эрмитаж, его дух и стиль и прочее возвышали мое сознание. Присутствие великих художников мало-помалу очищало от той скверны, которая так беспощадно засасывала нас в Москве. Кутежи стали мне надоедать — я искал иную компанию.
Утром спешил я в Эрмитаж. Там все было мило: важный, снисходительный, красивый швейцар в великолепной ливрее, и старые, вежливые капельдинеры, и академик Тутукин — один из хранителей Эрмитажа.
Петр Васильевич Тутукин был как бы необходимая часть Эрмитажа. Он был один из старейших служащих его, остаток былых времен, времен Николаевских. В те времена ему было много лет, лет семьдесят, наверное. Элегантный, как маркиз, совершенно белый, шаркающий маленькими ножками, маленький старичок в вицмундире, со всеми был отменно любезен, добр, благожелателен.
Когда-то давно, на заре своей художественной жизни, он рисовал перспективу Помпейской галереи Эрмитажа[69]. Однажды утром он сидел за мольбертом, погруженный в свое кропотливое художество, и слышит сзади себя шаги. Шаги величественно-мерно приближались к нему. Какое-то непонятное волнение заставило молодого Тутукина подобраться, и он, не изменяя позы, затаив дыхание, продолжал свое дело. Шаги смолкли. «Некто» остановился сзади художника, волнение которого возрастало с каждой секундой. Дыхание как бы остановилось. Он чувствует, как «некто» наклоняется над ним, слышно его дыхание… Ухо ощутило прикосновение острого конца уса… Сердце бьется, бьется. В этот момент «Некто» произносит: «Молодец!» Шаги снова раздались. Петр Васильевич поднимает отяжелелые веки от своей перспективы и видит величественную фигуру удаляющегося Императора Николая Павловича… Какое огромное, неизъяснимое счастье… Случай скоро стал известен. Молодого художника заметили, стали его приглашать давать уроки в высокопоставленные дома. И он, такой приятный, скромный, обязательный, стал делать свою петербургскую карьеру художника, закончившуюся долголетним пребыванием старшим хранителем Императорского Эрмитажа. Умер П. В. Тутукин глубоким стариком, и кто в те времена не знал и не любил этого милого, совершенно седого старичка, галантно шаркающего ножками по великолепным паркетам Эрмитажных зал…
Ознакомительная версия.