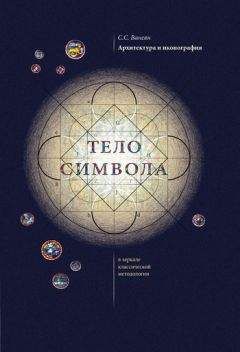Ознакомительная версия.
Общее и единое пространство Таинства (в данном случае Евхаристии) выстраивается посредством мистерии и ритуала, но обеспечивается наличием пространства своего совершения, в данном случае – церковного здания. Его возведение, строительство и выстраивание, несомненно, светский эквивалент сакраментальных действий и усилий. Именно это позволяет, как мы убедимся в дальнейшем, интерпретировать смысл, вложенный в постройку не только по ходу внешнего истолкования или согласно традиции, но и по ходу строительства, возведения здания, а также и присутствующий в замысле, программе и т. д. То есть смысл сугубо художественный!
Пространство зрительного опыта и убранство литургического действия
И объединяет все подобные смыслы и способы их порождения и усвоения, повторяем, единое пространство, действующее само как инструмент первичного истолкования потому, что это пространство восприятия, созерцания, то есть, фактически, эстетического опыта, в котором, как уже говорилось, невидимое обретает видимые формы. Особенно наглядно это проявляется в обычае elevatio сalicis, то есть возношения потира, когда указывается на присутствие Жертвы на Престоле.
Вообще говоря, момент визуально-перцептивный в некоторых случаях оказывается просто решающим, особенно когда это касается вещей, не столь нагруженных собственным, так сказать, прямым значением, как, например, в случае с символизмом такого «незаметного» предмета, как кадило. Хотя сам предмет восходит к ветхозаветным храмовым обычаям и установлениям, тем не менее его символизм выглядит совершенно стандартным, особенно когда речь идет о символике материала (золото, серебро, железо), стихий (огонь, дым) и числа (количество помещенных на уголь зерен ладана). Но не более того. Ни разнообразие форм, декора, которыми отличаются средневековые кадила, – ничто из этого, как с нескрываемым сожалением отмечает Зауэр, не попадает в пространство подобного символического восприятия, которое «сперва связывает себя с предварительно выставленными символическими понятиями, чтобы затем произвести истолкование без какой-либо оглядки на последовательное и логическое развитие главной идеи»[151]. Другими словами, мы имеем дело вовсе не с художественным, а с чисто символическим пространством, очень узким и составленным из понятий. Перед нами, на самом-то деле, настоящая символика идей, которая, впрочем, соотнесена с определенными предметами, образующими, по всей видимости, смысловой контекст восприятия и усвоения этих идей. То есть предмет образует среду, внутри которой движется мысль. Говоря чуть более расширительно, символизируемый предмет, изъясняемая вещь – это средство закрепления эйдоса в этом, материальном, мире. И мир этот не только материален, но и предметен, то есть обладает способностью вмещения, хранения и демонстрации – проявления. И одновременно это мир действий – манипуляций и операций. И образ этого мира – архитектурное пространство.
И как всегда, подтверждение приходит из мистически-тропологического толкования, касающегося состояния души и поведения человека (а в поведении участвует и тело). Процесс каждения включает в себя движение вверх и вниз, и подобная траектория благовонного воскурения символизирует взаимодополняющие отношения между молитвой (движение вверх) и ответным милосердием Божиим (движение вниз). А само кадило (чашка с углем и ладаном) в этом контексте символизирует человеческое сердце. И как источает аромат кадило во время каждения, устремляясь вверх, так же благоухает и устремленная к Богу молитва, полная добрых намерений…
Снова символика восприятия и опять – не предмета, а действия, но уже не одного зрения, но обоняния, в котором, как известно, еще меньше рациональной логики по сравнению с визуальным опытом, и даже с опытом слуховым[152]. Зауэр в связи с символизмом кадила и каждения говорит, что в восприятии символистов отношение кадила к человеческому образу Христа совершенно средневековое, то есть, добавим мы, конвенциональное и опосредованное понятийным рациональным рядом. Видимо, не совсем так, если иметь в виду всю вышеописанную сенсорно-эмоциональную моторику, которая, как нам представляется, сама чуть ли не является источником символизма. Зауэр удивляется, как Дуранду удается, толкуя такой мизерный предмет, как, например, ковчежец для хранения ладана (navicula), «весьма смело соединять две гетерогенные мысли» ради напоминания о том, что должно иметь стремление посредством молитвы, преодолевая широкое и глубокое море временного существования, достичь вечного Отечества[153]. Предметы и мысли могут быть гетерогенны, если гомогенна и целостна вмещающая их среда. Эту нашу мысль подтверждает и такое наблюдение Зауэра: в глаза средневековым символистам бросаются лишь внешние признаки вещей, они учитывают только цель, то есть назначение, предметов, игнорируя формально-художественную сторону дела.
В защиту не столько «монументального богословия», сколько церковного здания скажем, что наружный облик предмета и его функциональность имеют выход не в пустоту, а в храмовую, церковную, литургически-мистериальную среду, где каждый отдельный предмет имеет свое место и назначение, поэтому-то он уместен, то есть обязателен, и наделен значением, то есть познавателен. И действия, совершаемые с этими предметами, только обогащают их смысл, что видно и на примере специального сосуда для освященного масла. Покрытый специальным платом, этот сосуд брался в числе прочих предметов алтарной обстановки на особые торжественные шествия Чистого Четверга, которые можно истолковать, в том числе, и как странствие к Земле Обетованной, причем как в узком, типологическом, так и в широком, тропологическом аспекте[154].
Фактически само место освящало предметы, которые меняли свой статус и смысл, будучи помещенными в алтарь. Они обретали особую значимость и способность вмещать в себя смысл, которым не владели, будучи в изолированном положении. И даже всякого рода, казалось бы, случайные и необязательные вещи вдруг оказывались вполне уместными только потому, что вокруг них существовала особая архитектурно артикулированная и литургически трансформированная среда[155].
В результате эта среда оказывалась способной вмещать, хранить и воспроизводить смысл, но делая его собственным, специфическим и уникальным, не требующим, как мы видели, даже символики, тем более – прямой изобразительности, то есть презентации, репродукции, так как он есть смысл прямой, прямо исходящий из свойств литургического пространства. Поэтому совершенно справедливо Зауэр помещает разговор о собственно изобразительном искусстве, присутствующем внутри христианского храма, под рубрикой «Убранство церковного здания». Именно так именуется весьма обширная глава, следующая сразу после описания «устройства» алтаря. То есть после устроения среды можно и нужно ее обустроить, украсить, и это, с одной стороны, дополнительные, так сказать, возможности, а с другой – неизбежное и необходимое расширение собственно архитектурно-литургической символики, или, лучше сказать, символической семантики, которую мы, как договорились, отличаем от символики литературно-аллегорической.
Впрочем, начинается эта обширнейшая глава, стóящая, между прочим, всей следующей части и по объему, и по содержанию, с описания практики использования покровов и занавесей, а также шпалер и прочих подвижных и, казалось бы, непрочных форм. Но формы эти совмещают в себе сразу два крайне важных аспекта: они принадлежат сразу двум измерениям церковного здания, являясь и частью пространственных структур, и, в то же время, носителями изображений. То есть это переходная форма образности, делающая, помимо прочего, наглядным сам принцип убранства, украшения, декорировки, основная функция которой – служить пищей не для ума, а для взора, открывая тот или иной смысл, минуя вербальное и дискурсивное посредничество, «обеспечить через внешнюю декорировку украшение внутреннего, убранства души»[156].
Но «гораздо значимее» то обстоятельство, по мнению Зауэра, что средневековые литургисты пытаются обсуждать и «иконографическое убранство церковного здания», то есть «украшение посредством собственно образов»[157]. И здесь их поджидают весьма не простые испытания, ибо они в данной ситуации лишаются последних резервов богословия и, как никогда, приближаются к собственно художникам. Но в чем трудность? А в том, что, по мысли Зауэра (и всей тогдашней, по преимуществу неогегельянской, эстетики), «художническая свобода» (ее существование просто не обсуждается) оказывается ограниченной возможностью лишь выбирать между образцами, не более того. И таковыми образцами наряду с собственно книгами образцов оказываются вышеописанные символико-богословские тексты, всевозможные rationale и mitrale, что Зауэр не считает большим благом, как это выяснится в последней части его книги. Но тем не менее, ситуация с этими текстами именно такова, и, прослеживая, как средневековые комментаторы-богословы описывают изображения, принадлежащие к убранству храма, можно представить и их способ восприятия этих изображений.
Ознакомительная версия.