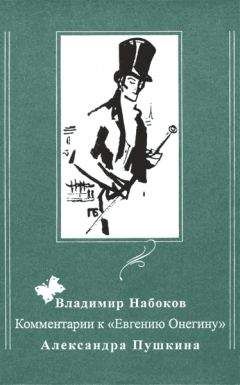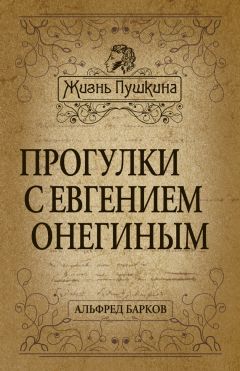"Наконец день выезда наступил. Это было после крещенья. На дорогу нажарили телятины, гуся, индейку, утку, испекли пирог с курицею, пирожков с фаршем и вареных лепешек, сдобных калачиков, в которые были запечены яйца цельные совсем с скорлупою. Стоило разломить тесто, вынуть яичко и кушай его с калачиком на здоровье. Особый большой ящик назначался для харчевого запаса. Для чайного и столового приборов был изготовлен погребец. Там было все: и жестяные тарелки для стола, ножи, вилки, ложки и столовые и чайные чашки, перечница, горчичница, водка, соль, уксус, чай, сахар, салфетки и проч. Кроме погребца и ящика для харчей, был еще ящик для дорожного складного самовара <…> Для обороны от разбойников, об которых предания были еще свежи, особенно при неизбежном переезде через страшные леса муромские, были взяты с собой два ружья, пара пистолетов, а из холодного оружия — сабля <…> Поезд наш состоял из трех кибиток. В первой сидели я, брат и отец, во второй тетушка с сестрою, в третьей повар с горничными девушками и со всеми запасами для стола: провизиею, кастрюлями и проч., и, наконец, сзади всех ехали сани с овсом для продовольствия в дороге лошадей. Это был обычный порядок путешествия наших <…> Разумеется такие путешествия обходились недорого, так что 20 или много 25 рублей ассигнациями, менее 7 рублей нынешним серебром, на 4-х тройках достаточно было доехать до Нижнего — это от нас около 500 верст, а может и более" (Селиванов, с. 145–147). Хозяйственная мать Татьяны, страшившаяся "прогонов дорогих", видимо, понесла такие же расходы.
Представления о размерах «поездки» при езде "на долгих" дает С. Т. Аксаков: "Мы едем-с в трех каретах, в двух колясках и в двадцати повозках; всего двадцать пять экипажей-с; господ и служителей находятся двадцать две персоны; до сотни берем лошадей" (Аксаков С. Т. Собр. соч. М., 1955, с. 423). Хозяйственная Ларина путешествовала, видимо, несколько скромнее.
При плохом состоянии дорог поломка экипажей и починка их на скорую руку с помощью "сельских циклопов", благословлявших "колеи и рвы отеческой земли" (VII, XXXIV, 13–14), делалась обычной деталью дорожного быта. "Коляска моя была куплена у великого Фребелиуса, знаменитейшего из петербургских каретных мастеров, которые одни умеют приготовлять оси, рессоры и подтяжные ремни, способные выдерживать в продолжение недели всякого рода удары, толчки и подпрыгивания на русских дорогах <…> "Наши Русские дороги, сказал мне один очень любезный житель Петербурга, коверкают в сорок восемь часов экипажи французские, английские и венские, но щадят наши национальные экипажи в течение восьми дней нашей беспримерной скачки — а это много". В силу этого предвещания, я и ожидал на восьмой день какой-нибудь беды. Она не заставила ждать себя: произведение «великого» Фребелиуса, моя петербургская коляска сломалась перед самой станцией, к которой я подъехал уже в наклонном положении". (Поль де-Бургоэн. Воспоминания французского дипломата при С.-Петербургском дворе. 1828–1831 гг. — Военный сборник, т. 48. СПб., 1866, с. 190).
В 1820-е годы начали входить в употребление также дилижансы — общественные кареты, ходящие по расписанию. Первая компания дилижансов, ходивших между Петербургом и Москвою, была организована в 1820 г. вельможами М. С. Воронцовым и А. С. Меньшиковым не только из коммерческих, но из либерально-цивилизаторских побуждений. Начинание имело успех; Меньшиков 27 февраля 1821 г. писал Воронцову: "Наши дилижансы в самом цветущем ходу, охотников много, отправление исправное" (цит. по кн.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.-Л., 1936, с. 444). Дилижансы брали зимой по 4 пассажира, летом — 6 и имели места внутри кареты, которые стоили по 100 р., и снаружи (60–75 р.). Путь из Петербурга в Москву они проделывали в 4–4,5 суток.
Однако основным средством передвижения все же оставались карета, бричка, возок, телега; зимой — сани.
Евгений Онегин — выбор названия произведения и имени главного героя не был случайным. На это указывал сам П в обращении к читателям: "Я думал <…> как героя назову" (I, LX, 1–2). Этим выбором определялись жанровая природа текста и характер читательского ожидания. Включение в название не только имени, но и фамилии героя, притом не условно-литературных, а реально-бытовых, возможно было лишь в относительно небольшом круге жанров, ориентированных на современное содержание, и создающих иллюзию истинности происшествия. Ср.: "Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов, истинная повесть" (ч. I–IV. СПб., 1791–1792). Такое название возможно было в бытовой повести, содержащей элементы сатирического нравоописания и морализма (в этом случае оно конструировалось из двух частей, соединенных союзом «или», — собственного имени героя и некоторой моралистической сентенции или функционально ей равного элемента, ср.: "Два Ивана, или Страсть к тяжбам", "Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова" Нарежного <1814>, "Памела, или Награжденная добродетель" Ричардсона <1740>. Отсутствие «или» указывало на то, что повествование имеет психологический (например, "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, дворянина" Стерна <1760–1767>) или приключенческий характер (ср.: "Странные приключения Дмитрия Матушкина, российского дворянина". М., 1796, анонимно). Романтическое повествование предпочитало выносить в заглавие только имя героя. Байрон в "Чайльд Гарольде" специально включил в III строфу первой песни рассуждение об отсутствии указаний на фамилию героя ("Зачем называть, из какой он был семьи? Достаточно знать, что его предки были славны и прожили свой век, окруженные почестями…").
После EO названия такого типа (имя и фамилия "Анна Каренина" — или только фамилия — "Рудин", "Обломов") сделались традиционными. Однако для читателей времени появления пушкинского романа такой тип заглавия был неожиданным и оставлял возможность для различных жанровых реализаций.
Имя «Евгений» воспринималось как значимое и было окружено ярко выраженным смысловым и эмоциональным ореолом. Начиная со второй сатиры А. Кантемира, Евгений (греч. «благородный») — имя, обозначающее отрицательный, сатирически изображенный персонаж, молодого дворянина, пользующегося привилегиями предков, но не имеющего их заслуг (ему противопоставлен у Кантемира Филарет — «добродетельный», незнатного происхождения, но герой и патриот). Сатирический образ щеголя-дворянина дается также в романе А. Е. Измайлова "Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества" (ч. 1–2, 1799–1801). Детали работы П над первой главой позволяют говорить о его знакомстве с романом Измайлова. Полное имя Измайловского героя — Евгений Негодяев — лучше всего характеризует природу той сатирической маски, с которой в литературе XVIII в. связывалось имя «Евгений». Показательно, что, давая герою "Медного всадника" то же имя, П сохранит семантику утраты. Однако если в моралистической литературе XVIII в. «Евгений» — это благородный, утративший душевное благородство, то герой "Медного всадника" — обедневший потомок родовитых предков.
Литературная семантика имени «Евгений» была сатирической и расходилась с бытовой. Здесь «Евгений» воспринимался как в известной мере «монашеское» имя, которое давалось при пострижении в замену таких имен, как Ефимий, Евстигней и др. Ср. игру этими двумя смысловыми оттенками в письме П к Вяземскому 7 ноября 1825 г.: "Архиерей отец Еvгений принял меня как отца Еvгения" (XIII, 240). Зд. двойное противопоставление: отец (духовный) — отец (автор), Евгений ("монашеское имя" в бытовой традиции) — Евгений ("сатирическое" имя в литературе).
Фамилия героя была сконструирована П необычно для литературы той поры. Если герой имел фамилию (что сразу же давало ему черты национальной и эпохальной конкретности, связывая с русской, послепетровской культурой), то принцип наименования, как правило, был таков: коренная часть фамилии, значимая, соотнесенная с характером, + суффикс и окончание, воспринимаемые как признак русской фамилии: «Негодяев» для негодяя у Измайлова, «Чистяков» для чистого сердцем, хотя и заблуждающегося героя у Нарежного, «Мечин» для лихого рубаки, «Ничтович» для скептика, «Стрелинский» и «Гремин» для гусар у А. Бестужева-Марлинского. Избирая фамилию для своего героя, П отказался от принципа значимости, однако сохранил представление о том, что она должна иметь специфические черты литературности и, напоминая реальные фамилии, одновременно быть невозможной вне художественного текста. Оттенок «поэтичности» таких фамилий, как Онегин или Ленский, возникает за счет того, что в корне их повторяются названия больших русских рек, а это решительно невозможно в реальных русских фамилиях пушкинской поры. Среди русских дворянских фамилий начала XIX века имелась определенная группа, производная от географических наименований. Это были, в первую очередь, княжеские фамилии, производные от названий городов и уделов. В XVIII в. возможно было образование реальных фамилий от названий поместий. Однако большие реки в России никогда не составляли собственности отдельных лиц или семей, и естественное возникновение фамилий от гидронимов было невозможно. Фамилии типа «Онегин», «Ленский», «Печорин», «Волгин» (Бестужев-Марлинский А. Второй вечер на бивуаке, 1823) были построены по модели реальных фамилий типа «Мещерский», «Можайский», «Звенигородский», «Барыбин», но в корневой части содержали названия больших русских рек, никогда не принадлежавших ни к чьей вотчине.[22] Ассоциируясь с героическими прозвищами типа «Донской» или «Невский», которые фамилиями не были и фамилий не образовывали, наименования типа «Онегин» создавали литературный образ реальных фамилий.