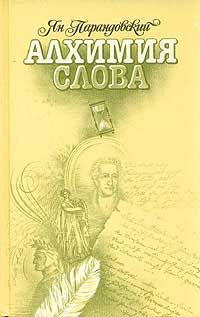А вот картина во всей ее развернутости: "Третьего дня я лег в пятом часу утра, встал около трех. С понедельника отложил все остальные работы и целую неделю возился над моей Бовари, мучительно страдая оттого, что работа не движется вперед. Я добрался уже до бала и начну его в будущий понедельник - надеюсь, дело пойдет лучше. Со времени нашей последней встречи переписал двадцать пять страниц начисто, и это - за шесть недель! Я так долго переставлял, изменял, переделывал, что в настоящий момент уже не понимаю, хорошо получилось или плохо, но надеюсь все же, что кое-как держится. Ты говоришь мне о своих разочарованиях: посмотри лучше на мои! Иногда мне даже не понятно, как это руки не опустятся в изнеможении, не помешается в голове. Веду мучительную жизнь, лишенную всех радостей, и меня поддерживает только мое бешеное упорство, временами оно плачет от бессилия, но не сдается. Я люблю мою работу любовью безумной и дикой, как аскет, власяница раздирает мне тело. Часто ощущаю в себе такое бессилие, когда не могу найти ни одного нужного слова. Измарав много страниц, убеждаюсь, что не написал ни одной удавшейся фразы, тогда падаю на оттоманку и лежу отупелый, погруженный в тоску. Ненавижу себя и обвиняю за безумство, заставляющее меня гнаться за химерами. Но вот проходят каких-нибудь четверть часа, и сердце начинает радостно биться. В прошлую среду мне пришлось подняться из-за письменного стола и поискать носовой платок: по лицу обильно текли слезы. Я так расчувствовался, такое испытал наслаждение, пока писал, меня умиляли и моя мысль, и фраза, которой эта мысль была выражена, и самый факт, что я нашел для мысли столь счастливую словесную форму. Так по крайней мере мне представлялось, но, может быть, здесь сказалось и расстройство нервов. Существуют состояния восторга настолько возвышенного порядка, что чисто эмоциональные элементы здесь ничего не значат, этот восторг своей моральной красотой превосходит самое добродетель. Иногда мне бывает дано, в моя погожие дни, достигать такого состояния духа, блеск восторга пронизывает меня от макушки до кончиков пальцов, душа воспаряет над жизнью настолько высоко, что и слава перестает для нее что-нибудь значить, и даже само счастье представляется излишним..."
Оба эти голоса - из Воклюза и Круассе - принадлежат писателям, которые благодаря материальной обеспеченности были полновластными хозяевами своего времени, и никакое принуждение извне к работе их не приковывало. Они приняли ее на себя добровольно, обуреваемые жаждой совершенства: для одного это значило достичь вершин культуры своего века, для другого - создать новую прозу. Оба служили своим целям, отказавшись от всего, что люди считают наслаждениями жизни.
Так работали не только они одни. Лейбниц мог почти по трое суток не вставать из-за стола, Реймонт, заканчивая первый том "Мужиков" (свадьба Борины), работал без перерыва три дня и три ночи и даже расхворался. Гёте, оглядываясь на прожитую жизнь, представляющуюся нам такой счастливой и безоблачной, признавался Эккерману, что обнаруживает в ней не более нескольких недель, отданных отдыху и развлечениям, все остальное - работа, труд. Кто не слышал об одержимых ночах Бальзака? Как складывался день Крашевского, как должен был складываться, чтобы этот человек смог на протяжении пятидесяти лет написать пятьсот произведений, собирать и издавать исторические материалы, вести гигантскую переписку, редактировать журналы? А что из своей жизни мог отдать жизни Лопе де Вега, если его творческое наследие исчисляется двумя тысячами пьес?
Но с другой стороны, пусть нас не вводит в заблуждение малое количество книг, оставленных иным писателем: иногда необходимо в несколько раз умножить эти книги, чтобы получить полный баланс вложенного в них труда, отданного наброскам, переделкам, выброшенным и написанным заново частям. Вот, например, такая простая вещь: авторы переписывают свои произведения иногда по нескольку раз. Сенкевич якобы переписывал заново всю страницу, если ему приходилось сделать на ней поправку. Писатели так поступают, чтобы высвободиться из хаоса черновиков. Бывает, доходят до того, что знают свое творение наизусть. Жюльен Бенда говорил мне, что каждую свою книжку он переписывал по шесть раз. Страшное расточительство времени, но плохую услугу оказал бы писателям тот, кто вздумал бы их здесь склонять к экономии. Впрочем, сомневаюсь, чтобы их удалось уговорить. Капитал творчества не умножается скупостью. Писатель свободно распоряжается своим временем, покоем, личным счастьем. "Уверяю вас, - пишет Ромен Роллан, - что каждый том "Кристофа" принес мне много седых волос или, вернее, стряхнул их с моей головы; все кризисы, через которые проходил мой герой, потрясали также и меня, пожалуй даже сильнее, потому что у меня не такой крепкий организм".
Рамон Фернандес рассказывает, что как-то среди ночи во время налета немецких "готов" к нему вбежал Пруст и спросил, как правильно произносится по-итальянски senza rigore - без строгости. Он только что употребил этот оборот в одной фразе, но не уверен, гармонирует ли звуковой оттенок итальянских слов с ритмом всей фразы. Ради двух слов он не только прервал работу, но - такой хрупкий и слабый - прошел половину Парижа, не думая об опасности. Редко кто, читая без должного внимания поэму Словацкого "Беневский", задерживается над скорбными строками этой догорающей человеческой свечи:
Поверьте... На ложь и обман мое вето
В стихах выражаю я твердо и четко.
И это важнее больному поэту,
Чем драться за жизнь с беспощадной чахоткой... [9]
Признания писателей о часах творчества, как правило, печальны: будто слышится грохот битвы, стоны раненых и умирающих, а затем наступает глухое молчание: поражение? Нет, это забыли протрубить победу. Часы творчества приносят мгновения пронизывающей радости, когда глава, абзац или хотя бы единственная фраза закончена, удалась и наконец можно вздохнуть освежающим вздохом удовлетворения. Долгая и упорная работа сосредоточилась в моменте напряженного усилия, все воображение, вся власть над словом, способность связывать слова между собою соединились и дали вырваться из мглы, из темной глухой ночи, которая где-то там наверху порабощала мысль, - душа писателя извивалась спиралью, все более закрученной, болезненной, казалось, что она вот-вот рухнет, пораженная в своей победной гордыне, как Беллерофон. И вдруг вместо этого мрак рассеивается, а на очищенном горизонте появляется, как чудо, светлый, выразительный, ощутимый образ, эпизод или фрагмент работы, завершенной и принятой с заслуженным восхищением. Это радость покорителей горных вершин, где наслаждение напряженными мускулами равно наслаждению взятия вершины.
Эйфория, если она неизменно сопутствует процессу творчества, не вызывает у меня доверия. Вот отрывок из "Литературных воспоминаний" Вейсенгофа, и я привожу его здесь как рассказ о наслаждении, какое вызывает у пишущего самый акт писания, но не скрою, что стиль этого признания будит во мне кое-какие сомнения (например: "нить, устремляющаяся к цели"). Вот что пишет Вейсенгоф: "К самым прекрасным наслаждениям, какие мне приходилось в жизни испытывать, я отношу радость удающегося литературного творчества ("Соболь и панна"), когда любимая тема как бы сама находит подходящую для себя словесную форму, когда рой слов и выражений, стилистических приемов является к тебе как по команде и остается только выбирать самые удачные, самые благодарные и прясть из них нить букв, устремляющуюся к поставленной цели. Тогда хотя бы на мгновение возникает чувство, что ты прикоснулся к совершенству, а это состояние духа - благородное и великолепное, нечто вроде экстаза, оно сдавливает горло и выжимает слезы из глаз".
Если сожаления, нарекания, жалобы писателей приходится слышать реже, чем можно было бы ожидать, то это потому, что многие воздерживались от признаний и только иногда неосторожное слово выдает тайны их огорчений. Писатели молчат из гордости или застенчивости или по другим причинам. В эпохи, когда поэта обязывало вдохновение, они предпочитали молчать о тайнах своего творчества. Но по темпераменту этих молчальников, по обстоятельствам их жизни, по характеру творчества, по рукописям, черновикам, посмертным бумагам можно получить ясное представление о бурях, бушевавших под маской сдержанности и спокойствия.
Разумеется, метания, каждодневная борьба, одурь от часов работы - все это отнюдь не обязательное правило. И не всегда даже очень плодовитый писатель является каторжником пера. Герберт Спенсер никогда не работал больше двух часов в день. Арнольд Беннет назначал себе столь же скромную меру времени и никогда ее не преступал: вставал из-за рабочего стола, даже не дописав начатой фразы. Жорж Санд ежедневно писала до одиннадцати часов вечера, и если в половине одиннадцатого она заканчивала роман, то тут же брала чистый лист бумаги и начинала новый. Писала свои романы, словно штопала чулки. Легко себе представить, как на это смотрел Мюссе, когда его перестала ослеплять любовь, - Мюссе, убегавший прочь при виде пера от страха и ненависти...