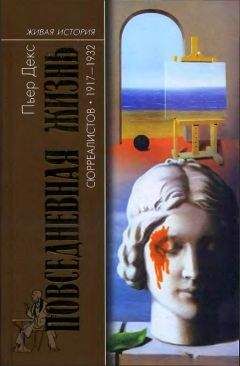В конце концов, у нас есть свидетельство Мориса Дени, опубликованное в 1893 году, которое Бернар даже и не пытался оспаривать. Речь идет об отношениях Гогена с Полем Серюзье. Серюзье, ученик академии Жюльена, был старше других единомышленников Гогена (он родился в 1864 году). Тем летом вместе со своими друзьями он тоже отправился в Понт-Авен, в пансион Глоанек. Скромно расположившись за столом «темных художников», он наблюдал за «бандой Гогена», слушал, как они смеялись и спорили об искусстве. И лишь перед самым отъездом, подбадриваемый Бернаром, осмелился обратиться к Гогену, который тогда снова слег. На следующий день Гогену стало лучше, и он повел Серюзье в Буа д’Амур (Лес Любви) на берегу Авена. Сам Гоген написал множество видов этой реки, упражняясь в «японском стиле». Наиболее известна среди них работа «Над пропастью», в которой контрасты простых цветов и вид сверху доведены до совершенства, в результате чего пропасть получилась как бы в миниатюре.
Этот свой опыт он и хотел передать Серюзье, заставив его выполнить под своим руководством на коробке из-под сигар набросок пейзажа, известный сегодня под названием «Талисман». «Какими вам видятся эти деревья? — спрашивал он. — Они желтые. Так и пишите их желтыми. А эта тень вам кажется синей? Так не бойтесь, пишите ее ультрамарином! Эти листья красные? Берите киноварь». Если бы существовало несколько вариантов этого разговора, суть бы их сводилась к одному — довести яркость красок до пароксизма, как это сделал сам Гоген в «Видении после проповеди». Набросок Серюзье подтверждает это. Дени, увидев пейзаж по возвращении Серюзье в Париж, был совершенно покорен им. Он писал, что этот пейзаж «настолько дик и необычен, что кажется созданным синтетическим способом». И пояснял: «Здесь мы впервые увидели в парадоксальной незабываемой форме животворную силу понятия „плоской поверхности, заполненной цветовыми пятнами в некоем заданном порядке“. И поняли, что любое произведение искусства — это преобразование реальности, по сути карикатура, эквивалент испытанного ощущения. А философский склад ума Серюзье мгновенно преобразовывал малейшее замечание Гогена в научную доктрину, приобретающую для нас решающее значение».
По словам художника Веркада, Серюзье говорил, что «ощущение природы должно сочетаться с эстетическим восприятием, которое отбирает, располагает в нужном порядке и упрощает увиденное. Гоген требовал логического построения композиции, гармоничного сочетания светлых и темных пятен, упрощения формы и пропорций, чтобы придать очертаниям мощную и красноречивую выразительность». Фенеон, в свою очередь, комментирует это так: «Реальность для него лишь предлог для создания весьма далеких от нее образов; он творчески переосмысливает поставляемый ею материал». Это подтверждает картина «Над пропастью», где корова на лужайке на переднем плане и рыбацкая лодка у верхнего края полотна являются ориентирами, хоть и анекдотическими, но столь же необычными, как в последних работах Мане, и служат они все той же цели — побудить зрителя расшифровывать новое предназначение материала, предложенного действительностью. Это и принято было называть «синтетическим методом».
Переписка с Гогеном и Бернаром позволяла Винсенту быть в курсе их дел. В своих экспериментах он очень нуждался в общении с художниками, такими же, как он сам, но Гоген под предлогом неоплаченных долгов по-прежнему откладывал приезд. И вот тогда же, в августе, случилось нечто непредвиденное. Тео получил наследство и теперь мог финансировать проект Гогена. Неожиданная удача подняла настроение Винсента, появилась надежда на разрешение всех имеющихся проблем, и, торопясь увидеть, что было сделано его товарищами в Понт-Авене, он предложил им обменяться своими картинами. Винсент написал Бернару: «Японские художники часто обменивались своими работами, что доказывало их дружеское расположение друг к другу, таким образом они жили в некоем братском содружестве, не плетя друг против друга интриг. Чем больше мы сможем походить на них в этом отношении, тем для нас будет лучше».
Гоген и Бернар решают написать портреты друг друга. Но Бернар все-таки «не отваживается писать Гогена, слишком перед ним робея», а Гоген, видимо, занятый в то время портретом Мадлен Бернар (или, по крайней мере, мечтавший об этом), отговаривается тем, что «пока изучает Бернара». «Я еще не овладел материалом. Быть может, напишу его портрет по памяти, но, в любом случае, он будет абстрактным», — пояснял он. Этот дружный отказ свидетельствует об их глубоко скрываемой обоюдной неприязни. В конце концов, каждый решил написать автопортрет, и в глубине картины изобразить другого. Бернар написал себя в три четверти анфас; слева от него, в центре стены, выполненный в серых тонах эскиз, изображающий Гогена. Винсент, получив картину, высоко оценил ее: «Здорово, как настоящий Мане». Гоген использовал то же построение, но совсем в ином духе, подписав свое произведение: «Отверженные. Другу Винсенту». И сопроводил подарок письмом, в котором подробно изложил свой замысел. Винсент сразу же переслал его Тео, сопроводив восторженными словами: это «совершенно замечательное письмо, которое я прошу тебя сохранить в силу его огромной значимости. Я имею в виду его описание самого себя, которое тронуло меня до глубины души».
Действительно, это письмо и спустя долгие годы являлось причиной споров об обучающей значимости клуазонизма или синтетизма. Гоген писал: «Я ощутил необходимость разъяснить свои намерения не потому, что сомневаюсь, в состоянии ли вы понять их сами, а потому что считаю: вряд ли мне удалось их так хорошо осуществить». И он принимается описывать свой портрет: «…я хотел выразить себя не только с помощью красок… Маска плохо одетого и сильного головореза, этакого Жана Вальжана, обладающего своего рода благородством и даже внутренней добротой. Живая горячая кровь пульсирует в его лице, и огненные тона пылающего горна, окружающие его глаза, символизируют огнедышащую лаву, где воспламеняются наши сердца художников». Мы располагаем и другим описанием, сделанным для Шуффенекера: «Цвет далек от натуры; представьте себе смутное воспоминание о керамике, обожженной на сильном огне! Все тона красные, фиолетовые, исполосованные огненными бликами, словно огромная, сияющая перед глазами печь, — место борьбы противоречивых мыслей художника…»
И снова для Винсента: «Рисунок глаз и носа, напоминающий цветы на персидских коврах, намекает на абстрактное и символическое искусство». И разъясняет: «Нежный фон с детскими цветами — обои для девичьей комнаты — сделан для того, чтобы подчеркнуть нашу артистическую девственность. А этот Жан Вальжан, сильный и любящий, но преследуемый обществом и поставленный вне закона, разве не олицетворяет собой сегодняшнего импрессиониста? Придав ему сходство с собой, я, по сути, изобразил всех нас несчастных жертв общества, которые за зло платят добром… Мой дорогой Винсент, вы бы здорово повеселились при виде всех этих здешних художников, замаринованных в своей посредственности, как огурцы в уксусе… Хоть плачь, хоть смейся. Какое жалкое существование они влачат вне своего искусства! Невольно задумываешься, стоило ли Христу принимать смертные муки за подобных шутов? В качестве художника — да, но в качестве преобразователя — не думаю. Мой приятель Бернар работает и строит планы отправиться в Арль. Лаваль, вы его не знаете, но он вас знает по вашим письмам и нашим рассказам, присоединяется к нам, чтобы пожать вам руку…»
Вполне понятно, что Винсента взволновало письмо, в котором Гоген открыл ему, как никому другому, свою душу. Наконец нашелся кто-то, страдающий и мыслящий, как и он сам. Автопортрет же произвел на Винсента странное впечатление: «Главное, что я понял из портрета Гогена, что ему больше нельзя так писать, надо взять себя в руки, вновь стать Гогеном, роскошно пишущим негритянок [на Мартинике)». И далее поразительная оценка, последовавшая за первой реакцией: «Мне это решительно напоминает пленника. Ни тени радости. Изображение на портрете менее всего относится к миру живых, можно смело утверждать, что художник стремился передать страдание, плоть, окруженную мрачными тенями и тускло отливающую синевой. Да, у меня теперь появилась возможность сравнить свои работы и живопись своих собратьев…»
Существовала ли когда-либо в истории искусства подобная связь между двумя художниками, между двумя жизнями, целиком отданными живописи? Винсент там же добавляет: «Автопортрет, который я посылаю Гогену, совсем в другом ключе, я уверен». Речь идет об «Автопортрете», посвященном «моему другу Полю». Винсент описывал его так: «Он весь пепельно-серый. Пепельный цвет получается из смеси серебристой краски с оранжевой на бледном серебристо-сером фоне, как у Веронезе, и все это объединено коричнево-красным налетом. Но, сконцентрировавшись на собственной персоне, я пытался, скорее, изобразить характер бонзы (буддийского жреца), поклоняющегося вечному Будде. Мне это стоило немалых усилий, но портрет все равно придется полностью переделать, чтобы действительно изобразить желаемое». И снова Винсент возвращается к автопортрету Гогена: «Слишком мрачный, слишком печальный. Не скажу, чтобы он мне не нравился таким, но это пройдет, когда он наконец приедет».