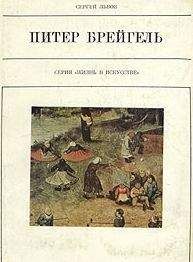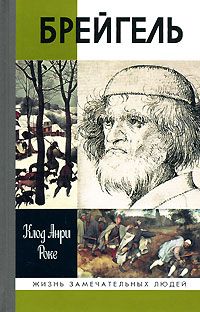Выкрикнув, что теперь ему ясно, чего стоят уверения провинций в верноподданничестве, Филипп покинул зал, где собрались штаты. Несколько дней прошло в напряженном ожидании беды.
Однако Филиппу пришлось смириться. В очень холодном послании Филипп объяснял, что его действия и намерения истолкованы неправильно, а насилия, совершенные его войсками, неизбежны, поскольку любые наемные войска действуют так, но все же обещал через несколько месяцев отозвать их из Нидерландов.
Король получил свои миллионы, Генеральные штаты получили королевское обещание. Прошло несколько дней, и Филипп покинул страну, чтобы больше никогда в нее не возвращаться. Но перед отъездом он успел разослать всем нидерландским судам и трибуналам новый суровый эдикт. Он содержал строжайшие инструкции против еретиков, которых предписывалось вешать, сжигать на кострах и хоронить заживо. Он требовал казни судьям, которые потворствуют и покровительствуют еретикам. Он разъяснял, что «плакаты» против еретиков направлены не только против анабаптистов, но и против тех, кто придерживается лютеровой и всех иных ересей. Мало того! Он требовал, чтобы городские власти наказывали всех, кто не соблюдает церковных праздников и постов и пропускает церковные службы.
Покуда флот, сопровождавший корабль Филиппа, плыл вдоль берегов Европы, гонцы спешили доставить его новый зловещий эдикт во все столицы провинций. Но весть о нем опережала гонцов.
Над страной, недавно ликовавшей по поводу заключения мира, над страной, несколько дней прожившей с ощущением, что ей вернут хотя бы часть прежней независимости, нависли новые грозные тучи. Первые вести из Испании были самого дурного свойства. Едва высадившись на родной земле, Филипп решил ознаменовать свое возвращение личным присутствием на огромном аутодафе. Оно было приурочено к его приезду как самое приятное для короля празднество.
Во время этой процедуры Великий инквизитор Испании потребовал от Филиппа клятвы «вечно поддерживать святое учреждение инквизиции против еретиков, отступников и их покровителей». Надо ли говорить, что Филипп дал такую клятву с великой охотой. Проходивший мимо его трона на костер молодой испанец крикнул королю, что грешно спокойно наблюдать за жестокой и несправедливой казнью. Филипп ответил, и эти слова вошли в историю: «Если бы мой сын был столь же грешен, как вы, я сам принес бы дрова ему на костер», — и распорядился, чтобы впредь те, кто идет на костер, были лишены возможности произнести хоть слово. Им зажимали губы тисками или затыкали рот кляпом.
Все события этого тревожного лета и осени не могли не потрясти Брейгеля. Возможно ли было не думать о том, что происходит вокруг?
Много художников жило и работало в то же время, что и Брейгель, — они видели все то же, что видел он, слышали провозглашение тех же самых эдиктов Филиппа, узнавали о тех же самых новостях из Испании. Но когда они входили в мастерские, когда принимались за работу — они забывали об этом или умели заставить себя забыть. Никому из них и в голову бы не пришло создать рисунок, подобный «Правосудию» Брейгеля. А он, даже и нарисовав его и даже увидев первые оттиски безымянной гравюры, не испытал облегчения — этот лист не уходил из памяти, не оставлял воображения. Закрой глаза, сожми веки! Не помогает! Каждую весть о новой казни, каждый слух о новом эдикте Филиппа он воспринимает так, будто это нацелено в него. Не потому, что он боится. Если бы он боялся, никакая сила не заставила бы его нарисовать «Правосудие». Он так устроен: боли и страхи его страны — его боли и его страхи.
К большой тревоге прибавлялось острое чувство недовольства собой, всем тем, что он делает. Серии гравюр по его рисункам выходят одна за другой. Отдельные листы тоже. Они имеют успех. Имя их автора становится известным не только в Антверпене, не только в Нидерландах, но и в других странах. Их перепечатывают, им подражают во Франции. Их знают в Германии, Испании, Италии и Англии.
В лавке «На четырех ветрах» трудятся опытнейшие граверы, лучших в Нидерландах нет. И все-таки Брейгель не может не видеть с досадой: их резец делает штрих грубее, резче, суше, подчеркивает то, чего он подчеркивать не собирался, сглаживает то, чего он сглаживать не хотел. Можно попытаться овладеть искусством гравера самому. Брейгель пробует. Сохранились гравюры, выполненные им самим. Но в лавке «На четырех ветрах» установилось прочное разделение труда. Почему нарушать этот порядок ради него? И работы более известных художников попадали к тем же граверам. Издателю было важно, чтобы в листах узнавали не только художника и гравера, но и общий почерк лавки «На четырех ветрах».
Так между художником и зрителем вставал гравер. Конечно, прежде всего он был посредником, заслуживающим благодарности, но иногда он вызывал досаду. Вероятно, эти сложные отношения напоминали отношения между писателем и переводчиком. Автор назидательно растолковывающей подписи со своими пояснениями, порою мелкими, а порою и излишними, тоже вставал между художником и зрителями. Вставал и издатель, который то подсказывал темы, то указывал граверу, какие внести поправки в уже исполненный рисунок. Это досадно, но с этим еще можно смириться.
Труднее другое. Окружающий мир, природа и люди, красота и уродство, величие и трагизм — все говорило с Брейгелем на языке цвета и требовало своего выражения на том же языке. Ни одна самая сложная аллегория не передаст так противоборство враждующих или гармонию согласованных начал, как столкновения и согласования цветов. Его постоянно тянуло к кистям и краскам, а внешние обстоятельства вынуждали подавлять это желание.
В его времена станковая картина в Нидерландах чаще всего была религиозной картиной, выполненной по заказу церкви, богатого дарителя, цеха или гильдии, которые хотели поднести ее церкви. Она могла быть портретом, одиночным или групповым, написанным для состоятельного человека. Но и картина для церкви с ее каноническими требованиями и парадный портрет были очень далеки от того, что хотел и мог писать Брейгель. У Брейгеля было трудное преимущество — его представления о живописи на годы и десятилетия опередили время и господствующий вкус.
Прошли годы после возвращения Брейгеля из Италии, прежде чем он смог посвятить себя живописи, не оставляя на первых порах работу для издателя гравюр. И все-таки, еще до того как он совершил этот важный шаг, он писал картины.
Многие картины Брейгеля очень трудно датировать точно. Большинство знатоков сходится на том, что картина «Падение Икара» написана не позже 1558-го или 1559 года, то есть как раз в те годы, о которых мы сейчас говорим. В этой картине звучат мысли, охватившие художника еще, быть может, в Италии, но с особенной силой мучившие его в тревожные годы, когда резко обострился конфликт между Нидерландами и Испанией.
Первый раз Брейгель нарисовал «Пейзаж с падающим Икаром» еще в Риме. На гравюре, впоследствии выполненной по этому рисунку, есть пометка «Питер Брейгель сделал в 1553 году». Над рекой, по которой плывут корабли, над холмистым островком, разделившим ее течение на две протоки, нависло большое белое облако. Среди набросков, сделанных Брейгелем в окрестностях Рима, есть похожие пейзажи. На фоне облака две маленькие, едва заметные фигуры. Потерявший крылья Икар стремительно падает вниз. Это стремительное падение очень верно подмечено художником.
Так падают подстреленные птицы. Дедал устремляется к сыну, чтобы помочь ему.
Замысел рисунка мог возникнуть и при чтении «Метаморфоз» Овидия и при созерцании римских фресок или барельефов на саркофагах, часто повторявших этот сюжет. Рисунок следует за традиционным изложением сказания, но картина резко и неожиданно переосмысляет его.
Вспомним предание о Дедале и Икаре. Это одна из самых глубоких легенд, созданных человечеством.
Художник и строитель Дедал бежал на остров Крит из Аттики. Бежал потому, что убил своего племянника, а убил потому, что позавидовал, — тот изобрел многие важные инструменты: циркуль, гончарный круг, пилу. На острове Крит Дедал построил для правителя острова, Миноса, лабиринт, где обитало грозное чудовище Минотавр, постоянно требовавшее человеческих жертв. В лабиринт ежегодно доставлялись на гибель юноши и девушки из Афин. Однако настал день, когда Минос разгневался и на самого Дедала за то, что тот помог бежать Тезею, убившему Минотавра. Теперь Дедал должен был сам стать узником лабиринта, им созданного.
Тогда он построил крылья для себя и своего сына Икара и они бежали с острова.
Дедал построил крылья из птичьих перьев, скрепленных воском. Он предостерегал Икара, чтобы тот не поднимался слишком высоко в небо, но тот, ощутив радость полета, взлетел к солнцу, горячие лучи растопили воск, крылья распались, Икар рухнул в море и утонул.