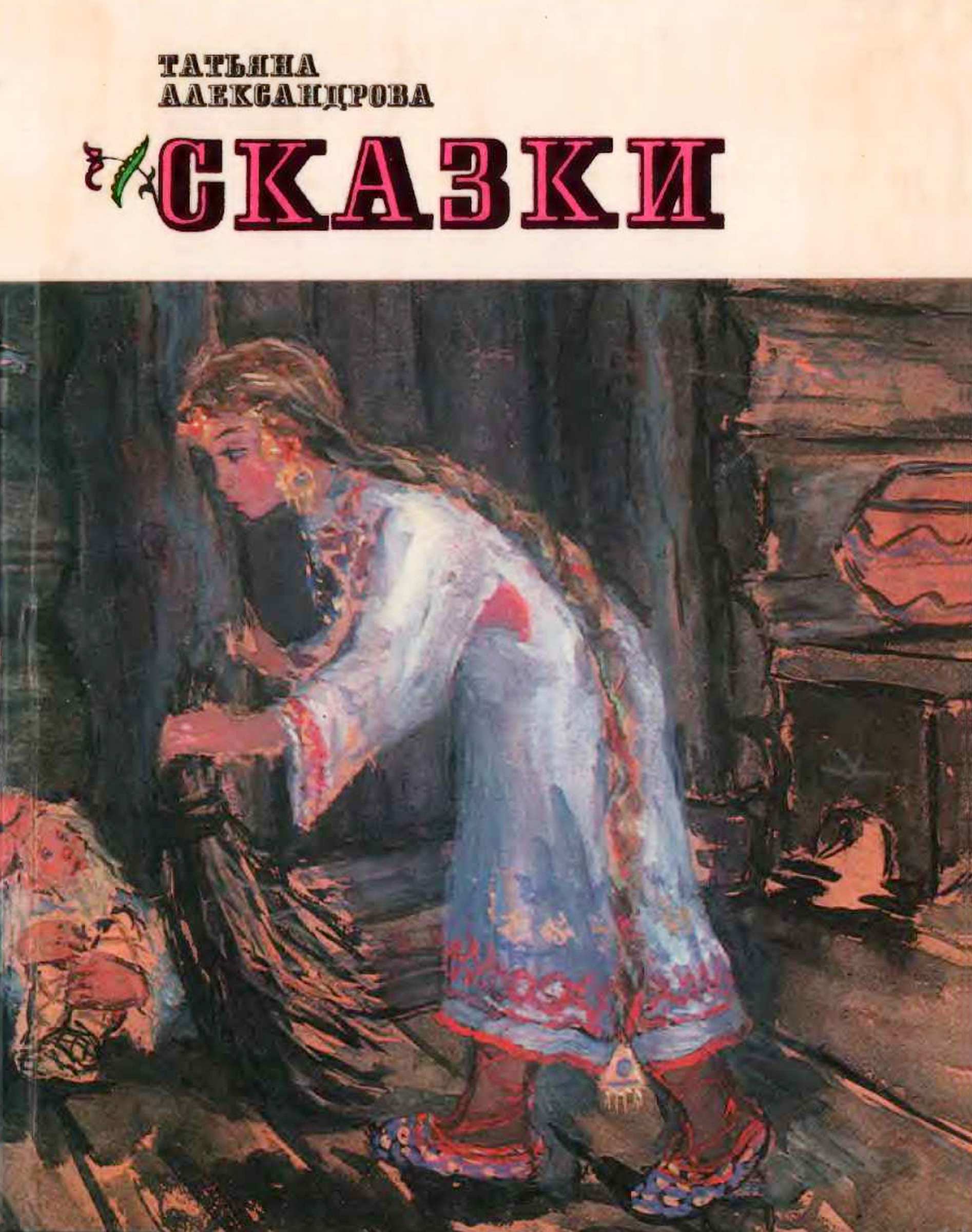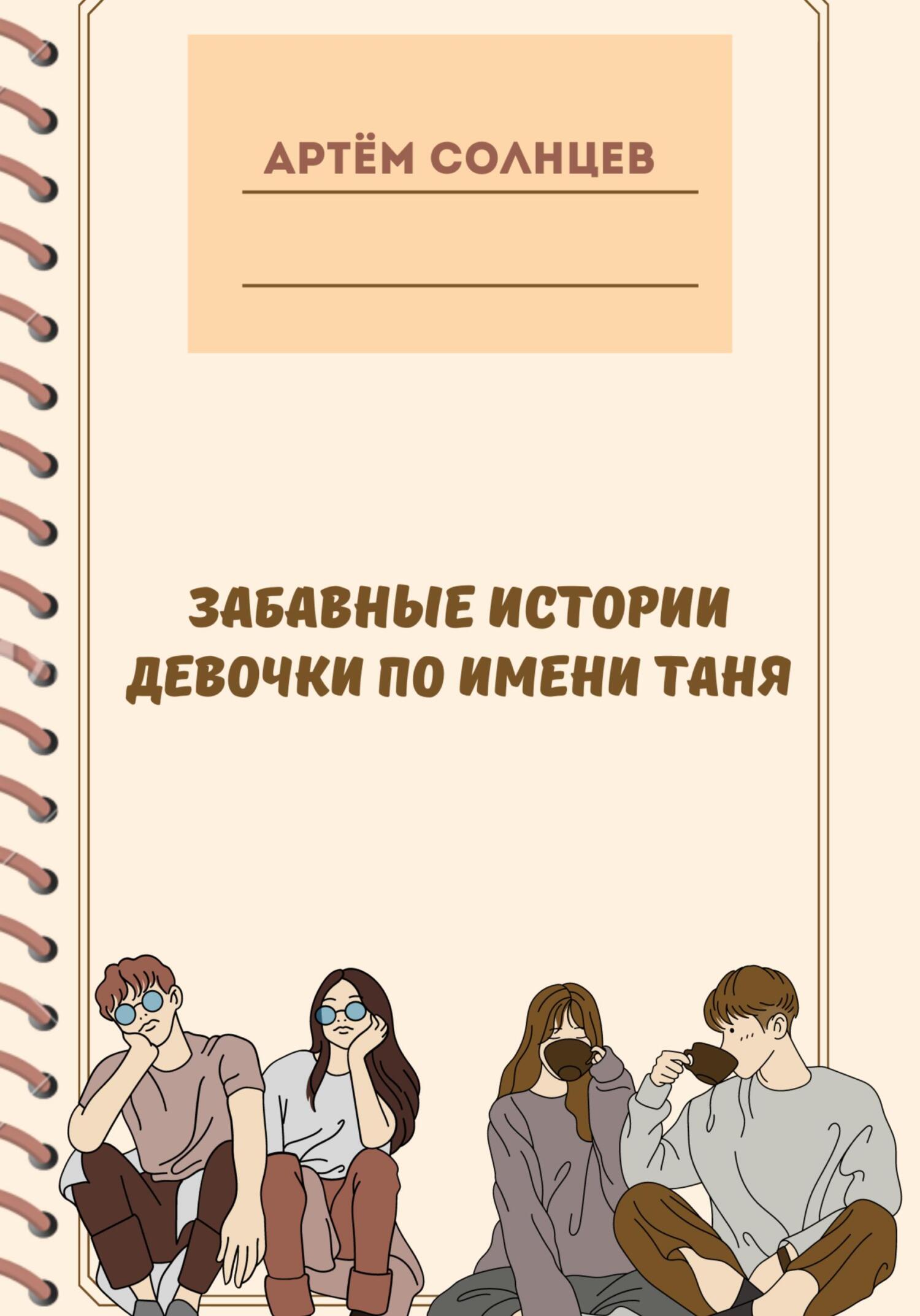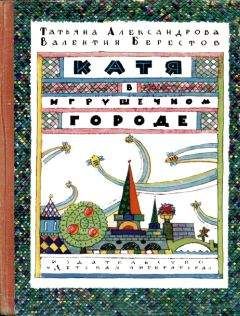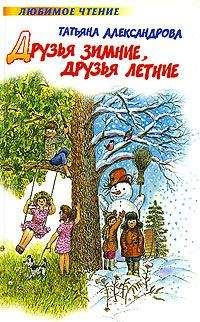летит белый снег, покрывает, будто периной, зелёную траву, розовые букеты и бутоны на ковре. Когда Яги не было дома или она спала на печи, выскакивал на поляну, ловил снежинки, любовался самыми прекрасными, лепил снежки и кидал ими в толстого Кота. Но не попал ни разу. Кот лениво протягивал лапу и на лету ловко хватал снежок, будто белую мышку. Кузька даже снежную бабу вылепил, совсем не похожую на Бабу-Ягу. У крыльца сделал горку, катался сколько хотел и сосал разноцветные сосульки, слаще которых ничего не могло быть.
Чуть Яга увидит Кузьку за окном, сразу закричит:
— Ах, дитятко озябнет, замёрзнет, простудится, ознобит ручки-ножки, щёчки-ушки, отморозит носик! — и тащит его в дом, отогревает на печи, отпаивает горяченьким.
Поначалу Кузька удирал, спорил:
— Что ты, бабушка Яга! Это ты не молоденькая, тебе и прохладно. А мне в самый раз!
Но зима долгая. Кузька понемножку научился бояться даже слабого ветерка, лёгкого морозца. Сидел на тёплой печи или за столом, за расписной скатертью. А Баба-Яга готовила ему яства одно другого слаще.
Вот только скука, делать Кузьке ничегошеньки нечего. Зимой в избах полно народу. А в закутках и под печкой видимо-невидимо домовых. Дети играют с ягнятами и поросятами, спрятанными в избу от мороза, а домовита — с мышами. Женщины поют за прялками, хлопочут у печей. Старики на печи сказки рассказывают. Вот бы всех сюда, в пряничный дом! Вот бы все обрадовались! И делать-то тут никому ничего не надо, всё готовенькое.
Да вот то-то и оно, что не надо. Бездельный домовой — разве домовой? Но Баба-Яга объяснила, что ежели печка печёт, варит, парит и жарит, то кому-то кушать всё это надобно, чтобы добру не пропадать, печь не обижать, и значит, дел у Кузьки по горло. Вот он и занялся делом — ел до отвала.
Очень скучал домовёнок по друзьям, по Афоньке, Адоньке, Сюру, Вуколочке… Хоть бы во сне чаще снились, что ли. Но Яга, что ни день, а особенно длинными зимними вечерами, шептала-нашёптывала, плела сплетни, будто чёрную паутину. Плохие, мол, у Кузеньки дружки, позабыли его, позабросили. Искать его не ищут, спрашивать о нём не спрашивают, никому-то он не нужен: как счастье, то вместе, а как беда — врозь. Ругала она и новых Кузькиных друзей, леших. Спят в берлоге, как собаки на сене. Кузенькино сокровище присвоили. Зимой волшебный сундук им вовсе ни к чему, а отдать не отдали, себе припрятали чужое добро.
Кузька слушал-слушал, да от нечего делать и поверил. И как не поверить? Он ведь всего-навсего маленький глупый домовёнок, шесть веков ему, седьмой пошёл. А Бабе-Яге столько веков, что и сама не помнит, со счёту сбилась. И все годы злом жила, неправдой. И умна, да неразумна. Всё б ей хитрить, обманывать. А неправдой далеко уйдёшь да назад не воротишься и друзей потеряешь… Сидит Кузька за полным столом. Бабу-Ягу слушает, себя жалеет, друзей поругивает.
В ту зиму Лешику и деду Диадоху снились неспокойные сны. Старый Леший всю зиму видел во сне топор. А его внуку снились серые избушки на курьих ножках, гонявшиеся за ним по всему лесу. Одна всё-таки сцапала его огромными птичьими лапами и сказала: «А не пора ли вставать?»
Лешик поскорее вылез из короба. Дед Диадох ещё крепко спал. Лешик выбрался из берлоги. Была ранняя весна. Остатки снега белели на чёрной земле. Лешонок отряхнулся от приставших к нему в коробе сухих листьев и — бегом к другу.
«Ох, цел ли, жив ли? Этакий маленький породистый домовёночек, ему б расти-цвести!» — думал Лешик, мчавшийся по весенним ручьям и лужам, мокрый, как лягушонок.
Пряничный дом сиял на поляне, как весенний цветок. Лешик скорее заглянул в окно и глазам своим не поверил — ни левому ни правому. В кровати, укрытый всеми одеялами, на всех перинах и подушках спал Кузька. В ногах у него дремал Кот. А у кровати на полу, половиком укрывшись, Кузькины лапти под головой, храпела Яга.
Лешик сел на крыльцо. Солнце глядело на него тёплым взором. Лешонок обсох. Его зелёная шкурка снова стала пушистой. А он всё сидел и думал. Может, всё-таки и у домовых бывает зимняя спячка? Но, услышав голоса в доме, заглянул в дверь, Кузька сидел за столом и распоряжался:
— Не так, Баба-Яга, и не эдак! Я что сказал? Хочу пирогов с творогом! А ты ватрушек напекла. У пирогов творог где? Внутри. А у ватрушек? Сверху. Ешь теперь сама!
— Дитятко милое! Пирогов-то я с морковкой тебе напекла. А ватрушечки румяненькие, душистенькие, сами в рот просятся.
— В твой рот просятся, ты и ешь, — грубо отвечал Кузька. — Одно дитятко, и того накормить толком не можешь. Эх ты, Баба-Яга, костяная нога!
— Чадушко моё бриллиантовое! Покушай, сделай милость! — уговаривала Яга, поливая мёдом гору ватрушек. — Горяченькие, свеженькие, с пылу с жару.
— Не хочу и не буду! — опять грубо ответил Кузька. — Вот помру у тебя с голоду, тогда узнаешь.
— Ой-ой, голубчик мой золотенький! Прости меня, глупую бабу! Не угодила! Может, петушка хочешь леденцового, на палочке?
— Петушка хочу! — смилостивился Кузька.
Баба-Яга побежала из избы и так торопилась, что не заметила Лешика, прищемила его дверью и полезла на крышу снимать леденцового петуха (он был вместо флюгера). Лешик пискнул, угодив промеж косяка и двери, но Кузька не заметил друга. А с крыши слышалось:
— Иду-иду, мой золотенький! Несу-несу тебе петушка, мой цыплёночек!
Кузька сидел напротив Кота и был гораздо толще его. Макал оладушки в сметану, запивал киселём, заедал кулебякой. Баба-Яга суетилась у печи:
— Я сварю-напеку такого этакого, чего никто не видал и не едал. А видели бы, иззавидовались.
Кот ел пышки с начинкой. Они с Кузькой ухватились за одну особенно пышную пышку, молча потянули каждый к себе. Кузька хотел стукнуть Кота, но увидел Лешика, бросил пышку, заёрзал на лавке:
— Садись, гостем будешь.
— Здравствуй, здравствуй, изумрудик мой зелёненький! Каково спал-почивал? Что так рано встал? Дедуленька небось разбудил, послал внука к старой бабуленьке. Не ждали мы тебя в такую рань, — пропела Баба-Яга, внимательно разглядывая лешонка.
— Дедушка ещё спит. Я сам прибежал, — рассеянно ответил лешонок, узнавая и не узнавая друга.
Кузька стал похож на гриб-дождевик, «волчий табак», а ручки-ножки, как у жука. Лешик