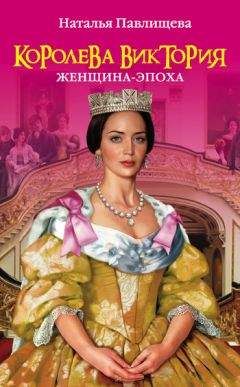class="image">

Гобелены Святого Грааля в столовой Стэнмор-Холла. Фотография 1898 года
В гобеленах «Святого Грааля» был достигнут небывалый уровень синтеза символических средневековых форм с реалистичностью искусства Нового времени. Динамика и пластика персонажей во многом заимствованы из средневековой миниатюры, но сами фигуры намного реалистичнее и эмоциональнее.
Несмотря на условность объемов, персонажи шпалер Морриса и Бёрн-Джонса больше похожи на живых людей, их облик привычнее для зрительского восприятия человека XIX и XX века. И пусть печальные девы, провожающие рыцарей в поход, подают всадникам щиты, мечи, копья так, словно рыцарское вооружение и щиты невесомы; пусть сами рыцари, проведшие годы в сражениях, походах и турнирах, выглядят ненамного брутальнее ангелов, охраняющих Святой Грааль – это лишь усиливает ощущение сказки. Бёрн-Джонс и Моррис создали в гобеленах «Святого Грааля» образ волшебного мира, в котором годы и трудности не ложатся морщинами на лицо и бременем на плечи, а испытание твердости духа не связано с неудобствами походной жизни.
Размеры и сложность композиций привели к тому, что сам процесс изготовления шпалер занял четыре года. Конечная цена серии составила 3500 фунтов стерлингов, из которых Бёрн-Джонсу было заплачено 1000 за работу над эскизами. Стоимость серии год от года все росла: оригиналы гобеленов были проданы на аукционе Сотби 16 июля 1920 года герцогу Вестминстерскому за 3 683 фунта стерлингов, но в 1980 году один лишь гобелен «Зов Святого Грааля» стоил Бирмингемскому музею искусств 90 000 фунтов стерлингов. Несмотря на дороговизну и детальность рисунка гобелены из серии «Святой Грааль» неоднократно изготавливались заново.
Популярность изделий фирмы «Моррис и K°» нельзя объяснить только тем, что руководитель предприятия умело следовал конъюнктурным требованиям времени и переменчивой моды. В таком случае нельзя было бы утверждать, что товары, выпущенные по рисункам самого Морриса и его партнеров, следуют определенному стилю. У Морриса был собственный взгляд на искусство дизайна, и, несмотря на коммерческие соображения, владелец фирмы давал ход своим многочисленным идеям.
Взгляды Морриса на качественную работу стали общепризнанным критерием «Движения искусств и ремесел» – организации, возникшей в 1880-х годах, в которой Моррис выступал не только в роли одного из основателей, но и постоянного сотрудника и лидера.
Несмотря на большие успехи своего детища, фирмы «Моррис и K°», и свои собственные, Уильям Моррис в 1880-х годах был погружен в депрессию. Как сопоставить потребность Морриса в поиске наивысшего совершенства и его мрачную веру в то, что искусство идет к своему концу? Он страдал от неудовлетворенности собой и не мог радоваться тому, что выпускает роскошные товары для утонченной и состоятельной публики, одновременно занимаясь пропагандой утопических идей социализма. В 1876 году, отделывая дом железного магната сэра Лотиана Белла, он возмущался тем, что «тратит жизнь, поставляя свинскую роскошь богачам».
Непреодолимая тяга к «исторической» роскоши и утонченности, охватившая массовое сознание, была несвойственна самому Уильяму Моррису: больше всего он ценил простоту и функциональность вещей. Когда в середине 1880-х годов его вкусы изменились, Моррис подчеркивал необходимость уменьшения дробности форм, упрощения фонов, ему нравились интерьеры, не перегруженные декором. Он говорил, что для себя бы он предпочел «беленые стены, простую мебель и луга снаружи»: «Поверьте мне, если мы хотим, чтобы искусство начиналось уже у нас дома, нам следует убрать оттуда все лишнее, все, что мешает нам и причиняет неудобства. Пусть в нашем доме не будет ничего, чем вы не умеете пользоваться или не находите прекрасным», писал он в статье «Красота жизни» в 1880 году. Моррис постепенно становился не просто художником, писателем, общественным деятелем – он превращался в символ эпохи. Для создания определенного образа интерьера 1880–1890-х годов достаточно было упомянуть о моррисовском дизайне.
В целом идеи, пропагандируемые Уильямом Моррисом на протяжении четырех десятилетий, показывают, что он старался преодолеть разрыв между «искусством ради искусства» и дизайном бытовых изделий, который неуклонно вел к вырождению прикладного искусства в конце XIX столетия. Моррис верил в развитие художественных форм, достигаемое постоянным изучением исторического наследства и упражнениями в технологии: «Болтовня о вдохновении – ерунда. Я решительно это утверждаю. Нет ничего такого. Это просто вопрос мастерства». Более того, он полагал, что неумение, торопливость и отсутствие мастерства дают лишь один результат – «вульгарность – специальное изобретение викторианской эпохи».
Чтобы сделать историческое прошлое частью настоящего, Моррис отказался от метода, распространенного среди сторонников средневекового возрождения, которые просто копировали старинные художественные формы, упрощая и травестируя их, соединяя древние предания с академическими приемами живописи и декоративно-прикладного искусства – и перешел к творческому осмыслению и изменению культурного наследия средневековья, к органическому соединению его с современной эстетикой. Именно такое «средневековье» воспринималось викторианской публикой как традиционное и одновременно новое искусство. Так были созданы предпосылки модерна, величайшего из стилей рубежа XIX–XX веков.
Идеи прерафаэлитов за пределами Британии
Искусство прерафаэлитов сыграло особую роль не только в европейской и островной, но и в российской культуре последней четверти XIX столетия. Речь не идет о непосредственных контактах и прямых влияниях, но тем не менее британская и русская культуры обнаруживают определенное сходство: имперское сознание, породившее неизбежные поиски особого, «истинного» пути; рефлексии по поводу своей географической обособленности (Британия – остров, Россия – страна, стоящая на вечном перепутье между Востоком и Западом); культ частной жизни в кругу семьи, который вылился в феномен русской усадьбы и английского загородного дома – самодостаточного микромира, подчиненного воле и прихотям своего владельца (которые в одной культуре называли «эксцентричностью», а в другой – «самодурством»). Но более всего заметно тяготение русского и английского изобразительного искусства к литературности, сюжетности, неизменно превалирующим над «мотивом».
В обеих странах присутствует интерес к религиозной картине. Обратившись к итальянским живописцам эпохи кватроченто, прерафаэлиты позаимствовали не только стилистику, но и сам формат религиозной картины, в которой святые образы нередко соседствовали с жанровыми сценками. Художники Братства сумели создать собственный стиль, в котором сакральный сюжет и даже сложная символическая подоплека были подчинены законам жанровой живописи. В последующие десятилетия оказалось, что русские художники также стремятся выйти за рамки строгого православного канона, чтобы придать большую повествовательность традиционным сюжетам и яркие индивидуальные характеристики персонажам.
Уильям Дайс. Муж скорбей. 1860
Один из самых значительных примеров такого «расширения горизонтов» – полотно Ивана Крамского «Христос в пустыне».
Между произведением Крамского и более ранней картиной близкого прерафаэлитам мастера Уильяма Дайса «Муж скорбей» обнаруживается большое сходство. Нравственная тема и в светском обществе, и в религиозном освещении в XIX веке была близка как русским, так и английским мастерам. Однако наибольший интерес в России вызвало искусство Холмана Ханта,