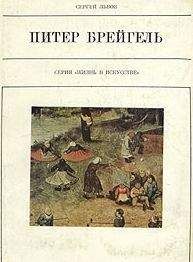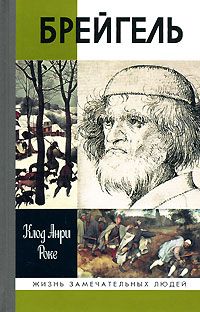А может быть, ни то, ни другое, ни третье. Может быть, Брейгель, которого долго занимали и еще долго будут занимать секреты глубины пространства и секреты изображения огромных человеческих скопищ, решил проверить свое умение в самых парадоксальных условиях. Он сочетал тему, требовавшую, казалось бы, монументального решения, и очень маленький размер картины. Работал он сильными, беглыми мазками, а не выписывал тщательно каждую фигуру, как того требовала техника миниатюры.
Покуда Брейгель писал эту картину, он был во власти отодвинутых в глубину памяти, но не померкших впечатлений давнего путешествия. Крутой берег, поросший горным лесом, разделенный, словно надвое разрезанный, провалом ущелья. Глубоко внизу окаймленная зеленью широкого горного луга река. Ее противоположный берег вначале поднимается мягким круглящимся склоном, а потом переходит в обрывистый утес, на вершине которого — стены, башни и шпили горного замка — пейзаж совсем не библейский, пейзаж альпийский. Совсем далеко по обеим берегам реки раскинулся едва видный большой многобашенный город. Он словно дремлет, он не знает еще своей судьбы.
По прибрежному лугу скачут всадники — вестники проигранного сражения. Их крошечные фигурки позволяют ощутить высоту горы, ширину горного луга, протяженность пространства.
Пока Брейгель писал картину, он все время вспоминал горные долины с вьющимися по ним реками, замки на крутых утесах, дали альпийских предгорий. Он доставал свои старые наброски и подолгу вглядывался в них. Ему хотелось, чтобы на первом плане, там, где развертывается трагический финал сражения, грозной была сама природа. Горы громоздятся здесь крутыми трудноодолимыми уступами, скалы устрашающе нависают над пропастью. Здесь все напряжено и неровно, планы пересекаются, линии ломаются и дробятся, красные пятна одеяний и знамен вспыхивают в густой тени горного ущелья, как капли крови. А за тесной группой елей открывается широкая даль — там все открыто, привольно, спокойно. Туда еще не долетели звуки напряженной битвы, эхо долины еще не разбужено топотом коней и звоном оружия. Эти дремлющие дали — зеленовато-голубые под неожиданным почти желтым небом — своим спокойствием и тишиной образуют контраст к трагическому напряжению проигранного сражения и самоубийству полководца, чье войско наголову разбито.
Брейгель не умел скупиться, беречь свои наблюдения и силы. Вот и в эту работу он вложил их с нерасчетливой щедростью. Недаром многие писатели упоминают Брейгеля, когда им нужно привести пример художника, работающего с полной отдачей, не щадящего ни сил, ни здоровья, щедро вкладывающего в каждую картину все богатство своих душевных переживаний и долгих наблюдений. Об этом пишут такие разные писатели, как Сомерсет Моэм и Эрнест Хемингуэй. Бертольт Брехт, который сам работал с беспримерным упорством, с великим уважением пишет о Брейгеле. А число художников, восхищавшихся свойством великого собрата зажигаться каждой картиной и сжигать себя работой над нею, еще больше.
Вернемся к картине. Вот небольшая группа солдат, приближающихся к тому месту, где Саул и его оруженосец бросаются на свои мечи. Обрыв скалы мешает солдатам увидеть, что произошло наверху. Они поднимаются по тропинке крадучись, наклонившись вперед, втянув головы в плечи. В их походке ощутима и крутизна подъема и ожидание возможной опасности. Предводитель, опередивший остальных, уже увидел, что на плато нет никого, кроме пронзенного собственным мечом Саула и повторяющего его поступок оруженосца. Он ускорил шаг и распрямился. Мы почти слышим, как он торопит своих солдат. А ведь это только один из эпизодов картины!
Чтобы написать его так, нужно представить себе, каково подниматься по горному склону туда, где ждет невидимая опасность, нужно почувствовать себя и Саулом, и его оруженосцем, и воином, одержавшим победу, и воином войска разбитого — пережить легенду седой древности как нечто происходящее с тобой или на твоих глазах.
Брейгель работает. Круглая суконная шапочка на густых всклокоченных волосах, куртка из грубого материала с подвернутыми рукавами, подпоясанная ремнем, — таким он изобразил художника на рисунке «Художник и знаток». Он легко и твердо держит кисть — это тоже видно на рисунке. У него внимательные глаза и усталое лицо. Но мастерской своей он ни разу не изобразил.
Хотелось бы составить представление об антверпенской жизни Брейгеля во всех подробностях. Где помещалась его мастерская? Как она была устроена? Что мог он видеть из ее окон? Кто навещал его во время работы? Ганс Франкерт, это мы знаем. А кто еще? Кто были его заказчики и покупатели?
Мастерская, наверное, была небольшой. Учеников и помощников у Брейгеля, скорее всего, было не так уж много. Ни один художник не назван у ван Мандера учеником Брейгеля, ни один художник не внесен в список гильдии в таком качестве. Значит, Брейгель почти всю подготовительную работу делал сам и делал на совесть. Его картины, написанные маслом на дереве, сохранились прекрасно, краски удивительно свежи, не пожелтели, не пожухли. Хуже обстоит дело с работами, написанными темперой на холсте. Но это связано и с меньшей надежностью самой техники, и с тем, что картины, выполненные темперой на холсте, считались тогда гораздо более дешевыми. Их писали не так тщательно и хранили не так бережно. Это была работа, рассчитанная на небогатого покупателя. Судя по всему, Брейгелю пришлось заниматься ею довольно много. Скорее всего, именно такие недорогие работы покупал у него Франкерт. Он работал упорно и неутомимо. Мы ведь рассказываем не о каждой его картине, их сохранилось больше, а написано было еще больше, чем сохранилось.
Мысли о работе не оставляют Брейгеля и за стенами его мастерской. Эти мысли владеют им постоянно. Отправляется ли он на долгую прогулку по окрестностям с Гансом Франкертом, идет ли по улицам города — его глаза жадно и непрерывно вбирают, впитывают впечатления. Он живет в том состоянии постоянного, сосредоточенного творческого внимания, которое знал Толстой и так глубоко и точно описал на страницах «Анны Карениной», посвященных художнику Михайлову. «Его художественное чутье не переставая работало, собирая себе материал», — говорит Толстой. Толстой вспомнился не случайно. Каждое описание у него отмечено такой силой вглядывания в окружающее и такой непосредственной свежестью в его передаче, словно никто и никогда до него не видел того, что. увидел он. Это свойство в высокой степени присуще Брейгелю.
От Брейгеля остались рисунки, сделанные с натуры. Вот так одеваются иностранные купцы, которых можно увидеть перед зданием биржи, вот в такой позе сидит нищий, который просит милостыню, вот так выглядит старая рабочая лошадь, ее упряжь и телега. Но эти рисунки, часто сопровождаемые словесными обозначениями цвета, лишь небольшая видимая часть непрерывного процесса собирания материала.
Брейгель обладал огромным запасом наблюдений и постоянно его пополнял. Он помнил, как выглядит очаг в богатой кухне, где над огнем висят дымящиеся паром медные котлы и над углями на решетках поджариваются лопающиеся от жира колбасы. И он помнил, как выглядят пустые полки на кухне бедняка. Как оковывает свой денежный ящик купец и как затягивает и подвешивает к поясу свой кошель крестьянин. Он знал, как устроено колесо подъемника и как устроено колесо для колесования. Он помнил, как в прозрачном морозном воздухе видна черная путаница оголенных ветвей и как первая зелень листвы одевает дерево словно бы зеленой дымкой. Окружающий мир жил в его памяти в отчетливых контурах, в цвете, в живых подробностях. Но всего, что он знал и помнил, ему было мало, он не мог, даже если бы захотел, остановить это непрерывное, ненасытное, жадное впитывание впечатлений. Даже если бы он твердо знал, что до конца дней своих не успеет использовать и малой части уже накопленного памятью, он бы не мог остановиться. Смотреть, видеть, запоминать было для него — как дышать! И еще одно свойство было ему присуще. Тема, сюжет, однажды овладевшие им, не отпускали его долго, он возвращался к ним снова, порою годы спустя.
Когда он совершал свое путешествие из Нидерландов в Италию, то увидел в разных городах церкви, строительство которых было начато задолго до его рождения, но все еще продолжалось. Незавершенная и упорно достраиваемая церковная башня была достопримечательностью многих городов, и любознательный путешественник никак не мог миновать ее.
Рассказ об истории строительства церкви и башни часто уходил в такие далекие времена, что становился легендой, а облик башни поражал контрастом между величественностью и незавершенностью замысла. Растущая башня иногда казалась живым существом, а иногда наводила на мысль о том, как огромны человеческие планы и как коротка человеческая жизнь — уже не первое поколение продолжает некогда начатую работу…