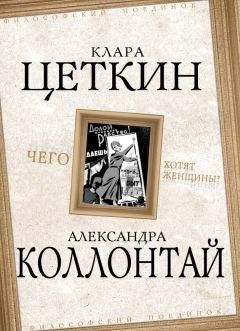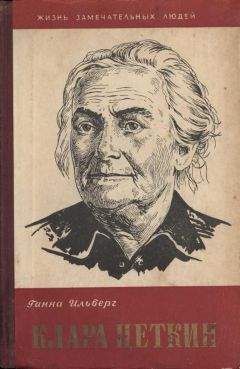Этот прием изоляции вещи распространяется Штеренбергом и на изображаемых им людей. Мы сталкиваемся с ним и в «Старом» и в «Первом мая» и в последнем портрете дочери художника.
Если это качество «изоляции» от каких бы то ни было социальных опосредствований вещей и человека связать с эстетским, рафинированным декоративизмом его работ, то становится ясным, что этот последний (эстетский декоративизм) является прямым следствием неумения или нежелания проникнуть в нашу действительность, увидеть процессы нашей столь динамической, идейно-насыщенной жизни. Изображение изолированной внешности вещей растет из неумения познать их подлинную сущность, из бессилия перед замкнутым в себе предметным миром. Вполне естественно, что стоящий на таких позициях художник всегда рискует скатиться уже к полному искажению, к полной деформации действительности, что имеет место в штеренберговской книжной графике. А казалось бы, что именно Штеренбергу, прошедшему в гораздо большей степени, чем его соратники, через организационно-общественную работу, следовало быстрее других осознать реакционность формализма.
Для того, чтобы понять сущность из вульгарного материализма растущей живописи конструктивистов Малевича, Клюна Суетина, надо вспомнить историю нашего искусства в период военного коммунизма. Супрематисты, беспредметники, футуристы в тот период захватили в свои руки изо-отдел Наркомпроса, имели свою печать «Искусство коммуны», «Изобразительное искусство» (орган Наркомпроса) и др. Два основных тезиса лежали в основе этого движения: отрицание идеологической основы искусства, отрицание образного идейного комплекса. Газета «Искусство коммуны» писала: «Общей платформой для всех левых групп в искусстве до сих пор мог быть (в живописи) так называемый „живописный материализм“, более или менее единое принципиальное отношение к картине, как к самоцели, как к конструктивной системе форм-красок».
Эта «конструктивная система форм-красок», как самоцель, была доведена беспредметниками, с логической последовательностью людей, абсолютно оторванных от действительности и подлинных запросов пролетарских масс, до предела: их «картины» превратились в чисто геометрические построения плоскостей, объемов, линий. Только в комбинациях контрастирующих красок и самих контуров была сущность этого мансардно-анархического бунта. Логическое заключение — одинокий черный квадрат Малевича, как высшее проявление живописи. Полный тупик. И этот тупик безыдейного немощного творчества, застрявшего на задах реакционных установок западно-европейского искусства, был декларирован, как смерть искусства вообще. Это была само-утешительная ликвидаторская теория, нашедшая позднее свое продолжение в лефовских теоретических высказываниях, направленных в защиту фактографии, газеты, якобы призванных заменить литературу образную, литературу «вымысла», в высказываниях против станковой картины и др. В области искусства родилась теория замены искусства производством, ремеслом. «Искусство коммуны» писало по этому поводу: «Путь, которым следует идти нашим художникам, ясен и прост. Искусство, живопись в том смысле, как оно понималось раньше, уступает ремеслу… Ремесло — выделка мебели, посуды, вывески, платья — как подлинное жизненное творчество становится фундаментом для нового вдохновения».
Иными словами, пролетариату предлагалось лишить себя сильнейшего оружия в его борьбе и строительстве, усовершенствованного оружия — идейно насыщенного художественного образа. И эта капитулянтская, реакционнейшая теория и практика рядилась в одежду ультра-материализма: долой все идущее от духа, да здравствует материя. Материя в живописи — ее фактура, а посему давайте замкнемся в фактурные, себе довлеющие, поиски.
Фактически на этих позициях и по сей день остались Малевич, Суетня, Клюя. Думается, что для разоблачения их практики, враждебной нашей действительности сегодняшнего дня, достаточно исторической справки.
Когда «рационализм» беспредметников вступает в весьма противоестественный союз с крайним патологическим психологизмом и истерическим экспрессионизмом, то плодом этой несчастной любви предстает «аналитическая школа» Филонова. Школа эта в своих декларациях, платформах и выступлениях велеречиво претендует на очень многое. Прежде всего, на научный подход, призванный анатомически расщеплять, разлагать действительность. Но действительность для «аналитика» Филонова это хаос, который может быть преодолен только через колоссальное напряжение особо «нутряного» (по Филонову выходит, что никак с этим «хаосом» не связанного) интеллекта. Действительность, ее реальное материальное воплощение для Филонова — мираж. Только «научно-интеллектуальный» подход, из субъективистского нутра художника растущий, в состоянии превратить миражную реальность в реальность «истинную», реальность создаваемую художником. По своему усмотрению художник разлагает мир на части, создает «формулу» ленинградского пролетариата, комсомольца, «формулу» мирового расцвета — нагромождение кристаллообразных объемов, среди которых разбросаны слабые намеки на человеческие очертания, на отдельные человеческие органы. Филонов рисует трехглазых, многоногих, многоруких людей, с головами и без голов. С другой стороны он рисует головы и лица людей, аналитически препарируя их «изнутри», сдирая с лиц кожу и населяя волокна мускулов какими то непонятными образованиями.
В лице филоновщины мы имеем совершенно реакционное направление, чудовищную помесь метафизики с вульгарным материализмом, прикрытую псевдонаучностью. Филонов отражает предельную растерянность перед действительностью, это художник, тянущий в маразм и явно перекликающийся со своими реакционно-мистическими западно-европейскими собратьями.
Таким образом формалистское живописное творчество определяется, обусловливается идеалистическим видением мира. Всевозможные оттенки субъективного идеализма в нем доминируют, переплетаясь с чисто созерцательным материализмом, доходя на крайних полюсах своего выявления до самой махровой метафизики.
Формалистский фронт очень неоднороден и говорить о нем надо весьма диференцированно, тщательно анализируя путь развития каждого из художников-формалистов (это дело специальных монографических работ.) Если, скажем, в лице Барто мы имеем застывшую формалистскую систему, у Филонова — наличие откровенно реакционной платформы, консервированное эпигонство у Малевича, Клюна и Суетна, то у Шевченко, у Штеренберга (особенно в акварельных работах) есть какие-то попытки выйти из порочного круга. У двух сходных по своему творческому методу художников — Тышлера и Лабаса — намечается расхождение: у Лабаса реалистические элементы явно начинают проникать в пока еще формалистское творчество. Тоже надо сказать об Удальцевой по отношению к Древину.
Только внимательный диференцированный подход дает возможность, ведя борьбу против формализма в целом, вместе с тем действовать в направлении перевоспитания, переработки при помощи этой борьбы некоторых из художников-формалистов.
Многие из формалистов и из их неудачливых защитников наивно обижаются: зачем, мол, вы превращаете вопрос собственно творческий в политический. Как будто бы даже развитому пионеру не ясно, что творческие вопросы органически врастают в политику, конечно, сохраняя свою специфичность и своеобразность, сложность своего политического опосредствования (а не по переверзевской формуле непосредственного воздействия экономической базы на творческий процесс). Эти товарищи не усвоили элементарной истины, что политика (в том числе и художественная политика) является высшей формой классовой борьбы, а классовая борьба еще надолго определяет пути социалистического строительства.
Творческий вопрос о формализме потому является творческо-политическим вопросом, что идеалистические позиции формалистов, фиксированные их полотнами, хотят они этого субъективно или не хотят, непосредственно вмешиваются в классовую борьбу, затрудняя пролетариату ее ведение. Происходит это потому, что в повседневном нашем бытовом звучании эти картины: 1) уводят от диалектическо-материалистического понимания действительности, уводят от самой действительности в вымышленный мир сугубо-субъективных образов-символов; 2) зачастую возмутительно искажают нашу действительность, 3) а когда пытаются к ней приблизиться, то делают это, стоя на идеалистических позициях: совершенно выхолащивают идейный смысл, отрывают форму от содержания, и самодовлеющая форма выступает жалкой пародией, карикатурой на нашу социалистическую действительность. Таким образом, мы не только вправе, но и обязаны, не навязывая каждому данному художнику-формалисту реакционных политических устремлений, рассматривать творческий вопрос о формализме и как политический вопрос.