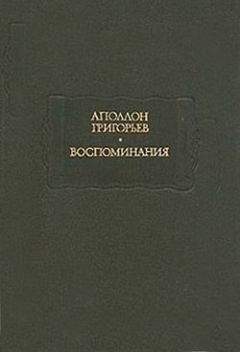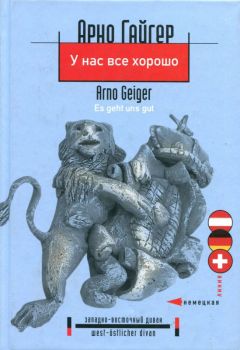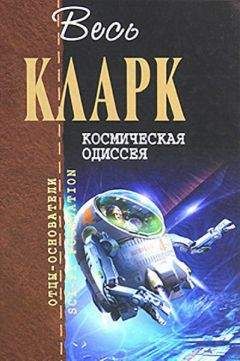– Да-с… великий трагик есть целая жизнь эпохи, – перервал Иван Иванович. – И после этого будут говорить, что влияние великого актера мимолетное!
– Вы сказали, жизнь… Не вся жизнь, но жизнь в ее напряженности, в ее лихорадке, в ее, коли хотите – лиризме.
Мы были уже между тем на площади del gran Duca.
Милостивые государи! Я вас ничем не беспокоил из-за границы: ни рассуждениями о влиянии иезуитов и о борьбе с ними Джоберти, ни благоговением к волосам Лукреции Борджиа,[56] ни Дантом – ничем, решительно ничем. Я был свидетелем, как перекладывали из старых гробов в новые множество Медичисов и лицом к лицу встретился с некоторыми из них – и ни о чем я вам не рассказывал… но в настоящую минуту, только что помянул я площадь del gran Duca, – во мне возродилось желание страшное сказать о ней несколько слов, с полной, впрочем, уверенностью, что если вы» ее не видали, то мой восторг от нее не будет вам понятен, а если видели, то приходили в восторг и без меня… А все-таки я даю себе волю. Потому что изящнее, величавей этой площади не найдется нигде – изойдите, как говорится, всю вселенную… потому что другого Palazzo vecchio – этого удивительного сочетания необычайной легкости с самою жесткой суровостью вы тщетно будете искать в других городах Италии, а стало быть, и в целом мире. А один ли Palazzo vecchio… Вон направо от него – я ставлю вас на тот пункт, с которого мы с Иваном Ивановичем шли в этот вечер на площадь, – вон направо от него громадная колоннада Уффиции, с ее великолепным залом без потолка, между двумя частями здания, с мраморно-неподвижными ликами великих мужей столь обильной великими мужами Тосканы. Вон направо же изящное и опять сурово-изящное творение Орканьи – Лоджиа, где в дурную погоду собирались некогда старшины флорентийского веча и где ныне – mutantur tempora[57] – разыгрывается на Святой флорентийская томбола!..[58] Вон налево палаццо архитектуры Рафаэля – еще левей широкая Кальцайола, флорентийское Корсо,[59] ведущее к Duomo, которого гигантский купол и прелестнейшая, вся в инкрустациях, колокольня виднеется издали. А статуи?… Ведь эти статуи, выставленные на волю дождей и всяких стихий – вы посмотрите на них… Вся Лоджиа Орканьи полна статуями – и между ними зелено-медный Персей Бенвенуто Челлини и похищение Сабинок… А вот между палаццо Веккио и Уффиции могучее, хотя не довольно изящное создание Микель Анджело, его Давид, мечущий пращу, с тупым взглядом, с какою-то бессмысленною, неразумною силою во всем положении, а вон Нептун, а вон совсем налево Косма Медичис на коне, работа Джованни да Болонья. И всем этом такое поразительное единство тона – такой одинаково почтенный, многовековый, серьезный колорит разлит по всей пьяцце, что он представляет собою особый мир, захватывающий вас под свое влияние, разумеется, если вы не путешествуете только для собирания на месте фотографических видов и не мечтаете только о том, как вы будете их показывать по вечерам в семейном или даже не семейном кружке… Если вы способны переходить душою в различные миры, вы часто будете ходить на пьяццу del gran Duca… Днем ли, при ярком сиянии солнца, ночью ли, когда месячный свет сообщает яркую белизну несколько потемневшим статуям Лоджии и освещает как-то фантастически перспективу колоннад Уффиции… вы всегда будете поражены целостью, единством, даже замкнутостью этого особенного мира, – и когда вы увидите эту дивную пьяццу – чего я вам искренно, душевно желаю, в интересе расширения симпатий вашей души – вы поймете, почему я перервал в рассуждения страницей об одном из изящнейших созданий великой многовековой жизни и человеческого гения.
Даже и в этот раз мы с Иваном Ивановичем, по нескольку раз в день видевшие пьяццу, не могли удержаться от того, чтобы не заметить эффект освещения ее вечерним светом. Заметил, впрочем, это не я, а он, потому что две недели его не было во Флоренции и, стало быть, его чувство зрения было менее притуплено обычными пунктами.
Замечали ли вы, что, если разговор двух лиц прерван каким-нибудь малоинтересным вмешательством третьего ближнего, его возобновить его можно, даже иногда довольно легко – душевный строй ваш остался после таким же, каким был до удара по нему обухом любезного ближнего, ибо струны этого странного инструмента, называемого человеческою душою, чрезвычайно упруги; но если разговор ваш прервался душевным впечатлением, если на струны, необычайно чуткие, подействовала струя иного воздуха, то надобно быть немцем, чтобы опять выкапывать со дна души старое впечатление, надобно положительно не верить в жизнь и наития, а верить только в поставленный вопрос и в теорию, из оного развивающуюся, – надобно иметь душу-книжку.
Иметь душу-книжку есть великое благо… для науки и сциэнтифических[60] споров, но знаете ли, что есть еще большее благо: иметь душу-комод, со множеством ящиков, из которых в один кладутся старые тряпки в другой кухонные припасы, в третий то, в четвертый другое, и наконец там в десятый, одиннадцатый возвышенные впечатления. Все это по востребованию вынимается, потом в случае нужды опять кладется на место и заменяется другим. Я встречал много таких душ, как мужских, так дамских. Последние в особенности чрезвычайно милы, когда устроен комодами: c'est trés commode[61] – пошлый каламбур, коли хотите, но это в самом деле удобно и главное дело – душа-комод ни к чему не обязывается, потому что все в ней совместимо.
Так как ни я, ни мой безалабернейший из смертных приятель не имели счастия при рождении быть награждены душою-книжкой или душою-комодом, то мы до самого Кокомеро не пытались продолжать прерванного новыми впечатлениями… Вечер был так хорош, Кальцайола так кипела жизнию, контральтовые ноты груди итальянских женщин звучали так полно, попавшаяся нам синьора Джузеппина, которую мы прозвали «золотою» после поездки на церемонию в Прато, ибо в самом деле без ее предводительства и наивно-дерзкой расторопности мы ничего бы там не увидали и вдобавок, не попавши на железную дорогу, принуждены были бы ночевать, может быть, sur le pavé du bon Dieu,[62] – синьора Джузеппина так обольстительно завязала слегка шею легкой ярко-красной шелковой косынкой, отчего ее черные огненные глаза получили еще более пламенный отлив… что мы забыли обо всем, кроме полногласной, полногрудной, яркой, пестрой и простодушной жизни, нас окружавшей. Мы дышали всеми порами, мы впивали в себя эти чистые, еще свежие, но уже сладострастно-упоительные, густые, как влага настоящего Орвиетто, струи весеннего воздуха – мы шли, отдаваясь каким-то странным снам, меняясь изредка замечаниями насчет физиономий попадавшихся нам женщин, и так достигли до площади собора, до piazza del Duomo… Читатель или читательница… вы уже бледнеете – не бойтесь: на сей раз вам не грозит никакой опасности. Мы пройдем с вами мимо Duomo, как прошли мимо, не обративши даже на него внимания, с Иваном Ивановичем…
Миновавши café «Piccolo Helvetico», Иван Иванович заметил только: что ж? опять сюда зайдем после театра.
– Иван Иванович!.. – сказал я тоном упрека. И слово опять, употребленное Иван Ивановичем, и мой тон упрека объяснятся впоследствии.
Огромный хвост был уже у театра Кокомеро, когда мы подошли к нему. Стало быть – надобно было lasciar ogni speranza,[63] заплатить только интрату[64] и найти хорошее местечко в партере. Пришлось брать posto distinto. Надобно вам сказать – если вы этого не знаете, а впрочем, если и знаете, то не беда, – что во Флоренции платится в театры за вход, платится интрата. Если вы хотите иметь нумерованное место в первых рядах, так называемое posto distinto, – вы платите за него особенно. Никто почти, кроме особенных высокоторжественных случаев, не берет этих отдельных мест. Берут, разумеется, англичане да некоторые из наших соотечественников – да и то из последних немногие, ибо наш, уж ежели раскутится, то берет ложу, «один в четырех каретах поедет».[65] На этот раз мы едва, однако, нашли и posti distinti. По всему видно было, что представление – высокоторжественное. Когда я с трудом достал афишу – афиш там, собственно, и нет в смысле наших и немецких, а есть огромными буквами напечатанные театральные объявления, у меня невольный озноб пробежал по составу. На афише стояло: Otello, il moro di Venezia, tragedia di Guglielmo SK (sic!) akspearo – tradotta e ridotta per la scena da Garcano…[66]
Отелло! Шекспировский Отелло! Отелло, как бы он ни был tradotto é ridotto!
Театр был битком набит, и притом набит не той массой, которая обыкновенно наполняет Перголу или другие оперные театры, которой совершенно все равно, что бы ни представляли, – ибо в то время, как примадонна поет свою лучшую арию, большая часть публики делает по ложам визиты своим знакомым. В театре Кокомеро – чисто драматическом пьесы не даются по несколько недель сряду и на него не смотрят, как на залу какого-нибудь казино – притом же в нем и меньше откупных лож, стало быть, и меньше обычных посетителей. Публика, наполнявшая его в этот вечер, представляла смесь публики перголовской с тою живою, подвижною, волнующеюся массою, которую найдете вы во время карнавального сезона во всех маленьких театрах, которая жарко и не чинясь сочувствует успехам или плутням своего Стентерелло,[67] негодует на артистов, представляющих его врагов, и преследует их часто криками о! scelerato[68]… Я обрадовался этой публике, волновавшейся и жужжавшей как рой пчел, и, садясь на свое posto distinto, заметил о ее присутствии Ивану Ивановичу… До начала представления оставалось еще четверть часа – и так как ложи бенуара и бельэтажа по общепринятому в большом свете всех стран порядку наполняются только в начале представления – да и вообще-то эти два ряда лож перестали уже нас с ним интересовать, то мы с ним и стали прислушиваться к тому громкому и резкому жужжанию, которое, не умолкая, раздавалось позади. Об этом жужжании не можно составить себе и понятия, не бывши в Италии. В выражении чувствований, даже самых домашних, никто тут не церемонится. Говор в театрах, особенно до начала представления, гораздо живее, чем в кофейнях. Оно и понятно, почему. Публика, платящая только интрату забирается пораньше большею частью целыми компаниями, запасающимися возами апельсинов, сушеных фиг, миндалю и грецких орехов. О милая простодушная и энергическая масса! как мы с Иваном Ивановичем полюбили ее в карнавальный сезон, полюбили все в ней от резких, не сколько декорационных очертаний ее физиономий и картинной закидки итальянского плащика до ее простодушной грубости в отношениях, грубости, в которой, право, затаено больше взаимного уважения людей друг к другу, чем в гладкости французов и чинной приторности немцев: я говорю это насчет театральной массы и притом партерной. Она своим простодушием напоминала нам нашу массу райка – как и вообще многие черты типического, не стертого итальянского характера напоминали нам иногда черты славянские… Мы только выдержаннее или задержаннее потому на вид суровее, но внутренне мы страстны, как южное племя страстность наша не выделалась в типы, в картинность движений и определенность порывов – и нам же, конечно, от этого лучше: перед нами много впереди!