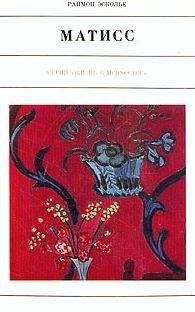Когда Сезанн писал портрет Воллара, он проводил все послеобеденные часы за рисованием в Лувре. Вечерами, возвращаясь к себе, он заходил на улицу Лаффит [109] и говорил Воллару: „Вероятно, завтрашний сеанс будет удачным: я доволен тем, что мне удалось сегодня сделать в Лувре“. Посещения Лувра помогали ему взглянуть как бы со стороны на то, что было сделано утром, — условие, необходимое для правильной оценки художником работы, проделанной накануне».[110]
Впрочем, молодому художнику не угрожала опасность задохнуться в стенах мастерской и музея. Сам Гюстав Моро постоянно внушал своим ученикам, служа тому живым примером: «Не замыкайтесь в музее, выходите на улицу». Анри Матисс и его соученик Альбер Марке претворяли этот прекрасный совет в жизнь.
Как встретились эти два больших художника еще до того, как начали совместную работу над гирляндами из лавровых листьев в Гран-Пале, Альбер Марке рассказал мне в своей прекрасной мастерской на улице Дофин, откуда открывается вид на Новый мост, остров Сите и дальше — на Самаритен и Сакре-Кёр.
«Впервые я увидел Матисса в Школе декоративных искусств.
Я еще не был с ним знаком, когда однажды староста объявил о приходе „мэтра“, имя которого давно предано забвению:
— Господа, снимите шляпы!
И тут раздался голос:
— Ну нет, я не могу этого сделать — тут повсюду сквозняки.
Это был Матисс. Следствием инцидента было его исключение из Школы на пятнадцать дней.
В Школу декоративных искусств Матисс ходил на занятия перспективой, готовясь к получению прав на преподавание рисунка. Я даже полагаю, что он успешно сдал экзамен, но предпочел впоследствии заняться кое-чем другим.
Я встретился вновь с Матиссом в Лувре. В то время я интерпретировал „Голгофу“ Веронезе и „Эхо и Нарцисса“ Пуссена; Матисс делал восхитительные копии „Охоты“ Карраччи и „Ската“ Шардена.
Мы встречались также в Школе изящных искусств в студии античной скульптуры, где нам пришлось много заниматься рисованием греческих статуй.
Матисса уже тогда живо интересовали художники старшего поколения — Ван Гог и Гоген. Мы вместе ходили смотреть их работы на улицу Лаффит к торговцам картинами, в частности к Воллару».
Уроки улицы… Марке, так же как и Матисс, не забывал этот ценный совет Гюстава Моро, и когда в 1898 году, после смерти последнего, на его место пришел Кормон [111] — художник, написавший «Каина» и «Победителей у Саламина», Альберт Марке не смог принять его манеры преподавания и однажды в присутствии модели сказал Камуэну: «Пойдем-ка отсюда! Гораздо интересней писать омнибусы!»
И действительно, именно улица и уличные сцены Парижа научили Марке и Матисса искусству упрощать рисунок, сводить его к основным линиям. Остановившись у подворотни на улице Ришелье, они улавливали ритм движения велосипедиста, кареты с лошадью и кучером, непрерывно повторяя при этом: «Делакруа говорил, что нужно уметь нарисовать человека, падающего с пятого этажа, за то время, что он падает».
Они были постоянными посетителями исчезнувшего ныне Пти Казино в проезде Жуффруа. Как много соединял в себе этот мир, живущий своей двойной жизнью в свете ламп и софитов! Домье, Дега, Тулуз-Лотрек учились здесь лаконизму, выразительности арабесков и беспощадному яркому освещению. «Мы много раз делали наброски с Поля Бребьона, Габриель Ланж и дебютировавшей тогда Мистенгет,[112] — писал мне Матисс в феврале 1937 года. — Прошлым летом, наводя как-то раз у себя порядок, я порвал более двухсот этих набросков, показавшихся мне ненужными».
Дела у Матисса не всегда шли хорошо. Ему для работы уже требовались тишина и возможность сосредоточиться. Его исполненному размышлений искусству не была свойственна импульсивность, и именно поэтому его вдохновение нуждалось в рабочем спокойствии мастерской или, по крайней мере, в покойном жилище. «Я испытываю каждый день потребность возвращаться к мысли, владевшей мной накануне, — говорил он Карко. — Мне было это свойственно и раньше, и я завидовал своим товарищам, которые могли работать где угодно. На Монмартре Дебре, владелец Мулен де ла Галет,[113] приглашал к себе всех художников порисовать. Ван Донген[114] творил чудеса: он бегал за танцовщицами и одновременно их рисовал. Разумеется, я тоже пользовался приглашением, но все, на что я был способен, это запомнить мотив фарандолы, который подхватывала публика, как только оркестр начинал играть»:
«Помолимся за тех, кто этого лишен,
Помолимся за тех, кто это потерял…»
Гораздо позднее этот мотив вспомнился ему, когда он начал писать «Танец» для Барнса[115] в Мерионе, под Филадельфией. «Я насвистывал его во время работы, я почти что плясал!»
Матисс и Марке встречались не только в студии Гюстава Моро; они часто отправлялись вместе в утренние часы писать пейзажи в Люксембургский сад, в то время гораздо более безлюдный, чем в наши дни. Сохранилась прекрасная картина Матисса, изображающая Люксембургский сад.[116] А вторая половина дня посвящалась Сене, окутанной дымкой, ее спокойным, мерцающим водам, набережным, мостам, на которых играют блики света. Марке останется ей более верен, чем Матисс. Однако в то время и Матисс ежедневно проводил долгие часы на берегах этой славной реки, терпеливо, порой не без труда постигая локальные цвета, стремясь одухотворить свои несколько тяжеловесные этюды магической игрой света. В то время он охотнее всего, так же как и Марке, рисовал Нотр-Дам.
Можно сказать, что вплоть до 14 июня 1947 года, дня смерти Альбера Марке, их дружба была безоблачной. И именно Матисс дал самый лестный отзыв об этом художнике, воспевшем Сену и Алжир и бывшем к тому же великолепным мастером гравюры: «Когда я вижу Хокусая[117]…я думаю о нашем Марке, и наоборот. Я имею в виду не подражание Хокусаю, а сходство».
Первые встречи с Востоком. Выставка мусульманского искусства в Музее декоративных искусств в 1903 году — настоящее чудо — пробуждает в Матиссе не только вкус к чистым тонам, но и склонность к цветному арабеску. Я должен заметить, что часто совершают ошибку, говоря о Выставке мусульманского искусства в Мюнхене в 1903 году, поскольку в то время она была устроена в павильоне Марсан в Париже и вызвала всеобщее восхищение. В Мюнхене же подобная выставка была организована только в 1910 году, и Матисс смотрел ее с большим интересом. Затем наступило время открытия японских гравюр, работ Хокусая и Утамаро; [118] они способствовали стремлению Матисса к утонченной простоте и помогали, хотя сам он этого и не понимал, раскрыться одному из наиболее глубоких и таинственных свойств его дарования.
Матиссу было двадцать шесть лет, когда он впервые выставился в Салоне живописи Национального общества изящных искусств на Марсовом поле.[119] Он представил два натюрморта, «Интерьер мастерской» и «Читающую женщину», которые принесли ему успех, лестный для молодого художника: его избрали членом Национального общества.
Жребий был брошен. Анри Матисс начинает почетную карьеру ортодоксального художник? под покровительством Каролюс-Дюрана[120] и Жак-Эмиля Бланша. Во всяком случае, это можно заключить из слов одного явного недоброжелателя. Однако куда более проницательный Роже-Маркс так освещает истинное положение вещей: «В 1896 году Анри Матисс заявил о себе в Национальном обществе с необычайным блеском и был безоговорочно принят в ряды его члены… Однако громкому успеху Матисс предпочтет трудности борьбы и нелегкую честь быть удовлетворенным собой».
На одной лестничной площадке с Матиссом жил молодой художник Вери,[121] работавший в весьма умеренной импрессионистской манере. Когда он поехал в Бретань, Матисс, чья живопись в ту пору отличалась глухими, темными тонами, отправился вместе с ним.
В течение многих лет, со времени Понт-авенской школы,[122] начиная с Гогена, Ван Гога, Серюзье, Эмиля Бернара [123] и Мориса Дени, эта земля кельтов с изрезанными морем берегами необычайно сильно влекла к себе парижских художников.
Вери увидел в Бретани только мрак, зловещие тени, и живопись его тонула в темных тонах битума, столь милых сердцу «Черной банды» — Котте, Люсьену Симону [124] и им подобным. Матисс же, совсем напротив, обрел там ту «упрощенность», которую воспринял Мофра [125] у Гогена, художника из Ле-Пульдю.