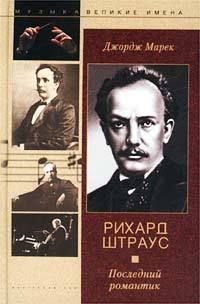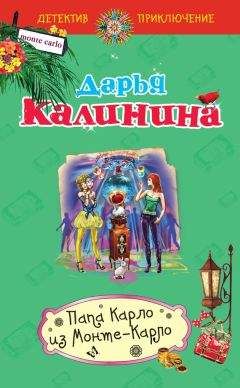Ознакомительная версия.
Штраус и не помышлял о том, чтобы уехать из родной страны, хотя, будучи музыкантом, встретил бы меньше препятствий на этом пути и был бы принят с большей готовностью, нежели немецкий писатель или немецкий актер. В то время как нацисты всячески превозносили Штрауса, Томас Манн был вынужден уехать из Германии, оставив там все свое имущество. Еще 15 мая 1933 года Манн написал письмо Альберту Эйнштейну, которое заслуживает того, чтобы его перечитать по прошествии столь долгих лет:
...
«Досточтимый господин профессор!
Я до сих пор не поблагодарил Вас за письмо по причине частой перемены места жительства.
Оно было величайшей честью, оказанной мне не только за последние страшные месяцы, но, возможно, и за всю мою жизнь. Однако вы хвалите меня за поступок, который явился для меня естественным и потому не заслуживает похвалы. Гораздо менее естественным является положение, в котором я сейчас оказался: в глубине души я все же предан Германии и меня тяготит мысль о пожизненной ссылке. Разрыв с моей родной страной, который почти неизбежен, лежит тяжестью на моем сердце и страшит меня – а это говорит о том, что такой поступок не соответствует моему характеру, который сформировался под влиянием немецкой традиции, восходящей к Гете, и который не расположен к подвижничеству. Чтобы навязать мне такую роль, нужны были лживые и отвратительные действия. Я глубоко убежден, что вся эта «германская революция» – лжива и отвратительна. В ней нет ничего, что вызывает симпатию к настоящим революциям, даже несмотря на связанное с ними кровопролитие. Ее суть – не «подъем духа», как нас заверяют ее громогласные приверженцы, но ненависть, месть, зверский инстинкт убийства и растление душ. Я убежден, что из всего этого не может выйти ничего хорошего ни для Германии, ни для всего человечества. То, что мы предупреждали о бедах и душевных страданиях, которые несут эти злые силы, когда-нибудь возвеличит наши имена – хотя нам до этого, возможно, не суждено дожить». [286]
Совсем иной была позиция Штрауса: он был немецким композитором при кайзере, был композитором при Веймарской республике, стал президентом Имперской музыкальной палаты при национал-социалистах и, если в Германии к власти придут коммунисты, станет комиссаром. Ему все равно. Он написал Стефану Цвейгу: «Я здоров и работаю так же, как работал через восемь дней после начала знаменитой мировой войны». [287]
Это безразличие побуждало Штрауса руководствоваться в своих действиях оппортунистическими соображениями. В 1932 году, когда гитлеризм был еще только угрозой, к Штраусу приехал Отто Кемперер. За чаем разговор пошел о политических событиях. Паулина сказала – «со своей обычной агрессивностью», – что, если нацисты будут как-нибудь досаждать Кемпереру, пусть он присылает их к ней – она уж с ними разделается! На это Штраус с улыбкой заметил: «Хорошенькое же ты выбрала время, чтобы вступаться за еврея!» Дочь Кемперера Лотте впоследствии писала: «Его оппортунизм был настолько откровенен, настолько очевиден в своей тотальной аморальности, что отец до сих пор вспоминает об этом инциденте скорее с усмешкой, чем с возмущением». [288]
Впоследствии Штраус говорил, что он изображал согласие с гитлеровским режимом, потому что боялся за Алису и своих двух внуков, одному из которых в 1933 году было пять лет, а другому только что исполнился год. В этом, без сомнения, есть доля истины. Нацисты нуждались в Штраусе как символе «свободной» страны, что явствует хотя бы из того, что, даже когда он стал персоной нон грата, Алиса с детьми не подверглась преследованиям, хотя ей было приказано пореже выходить из своего дома в Гармише. Через несколько лет, когда Штраус уехал с семьей в Вену (в 1942–1943 годах), он заключил «сделку» с гауляйтером Вены Бальдуром фон Ширахом: он, Штраус, не будет публично высказываться против режима, а они не станут трогать Алису и его внуков. Ширах сдержал свое слово, а Штраус согласился сочинить музыку в честь визита в Австрию японской королевской семьи на условии, что Алису с сыновьями оставят в покое. Тем не менее мальчиков часто обижали, и их одноклассники плевали в них по дороге в школу. Паулина громко возмущалась – ее не могли заставить прикусить язык ни гауляйтер, ни гестапо. Однажды на официальном приеме она сказала Шираху: «Что ж, господин Ширах, когда война закончится поражением и вам придется скрываться, мы дадим вам приют в своем доме в Гармише. Что касается остальной своры…» При этих словах на лбу Штрауса выступил пот.
Ни смирение Штрауса, ни его оптимизм, если он когда-нибудь действительно у него был, не оказались долговечными. Сначала встал вопрос о зальцбургском фестивале 1934 года, где Штраус должен был дирижировать оперой «Фиделио» и концертом симфонического оркестра. Это выступление было запрещено нацистами: они не поощряли сотрудничества с тогда еще враждебной гитлеровской Германии Австрией. Затем Штраус разочаровался в самой Имперской музыкальной палате. Он написал дирижеру Юлиусу Копшу, [289] которому доверял: «Все эти заседания совершенно бесполезны. Я слышал, что закон об арийском происхождении собираются ужесточать и что будет запрещена «Кармен». Я не желаю участвовать в таких постыдных ошибках… Министр отверг мою подробную и серьезную программу реформирования музыки… Время для меня слишком дорого, чтобы и дальше принимать участие в этом дилетантском безобразии». [290] У Штрауса еще сохранилось былое чувство юмора. Ему прислали анкету, в которой спрашивали, является ли он арийцем, и требовали назвать имена двух музыкантов, которые могли бы засвидетельствовать его профессиональную компетенцию. Он назвал Моцарта и Рихарда Вагнера. [291]
По-настоящему он рассердился, когда увидел, что ему мешают работать, что над его новым либреттистом Стефаном Цвейгом нависла угроза. Перед самой премьерой их первой – и оказавшейся последней – оперой «Молчаливая женщина» произошел зловещий эпизод.
После смерти Гофмансталя Штраус решил, что больше он не напишет ни единой оперы. Кто будет писать ему либретто? Неужели он обречен, несмотря на горячее желание работать, на жизнь «состоятельного и ленивого пенсионера»? И вот в 1931 году издатель Цвейга Антон Киппенберг, директор издательства «Инсельферлаг», заехал к Штраусу по дороге к Цвейгу. Хотя Штраус не был лично знаком с Цвейгом, он как бы между прочим попросил Киппенберга узнать, нет ли у знаменитого писателя какого-нибудь сюжета, пригодного для оперы. Цвейг уже много лет был пылким поклонником Штрауса, но, будучи чрезвычайно скромным человеком, не осмеливался навязывать ему свое знакомство. Он сразу отозвался на просьбу Штрауса, послав ему факсимиле письма Моцарта из своей богатой коллекции рукописей и написав, что он будет счастлив предложить Штраусу «музыкальный план». Он не сделал этого раньше, потому что «не осмеливался обратиться к человеку, которого боготворю». Штраус и Цвейг встретились в Мюнхене, и Цвейг предложил сюжет «Молчаливой женщины», основанный на комедии Бена Джонсона «Эписин».
Так началось их сотрудничество и интенсивная переписка. Штраус был счастлив. Не иначе как Цвейг послан ему судьбой. Сценарий представлял собой «готовую комическую оперу… более подходящую для переложения на музыку, чем «Фигаро» или «Цирюльник». Ему предоставлялся шанс взять новый кредит у своей юности, начать все сначала. Сотрудничество с Цвейгом приносило одно удовольствие. Отношения у них сложились легкие и дружелюбные, причем Цвейг не только был готов выполнить любую просьбу Штрауса, но относился к нему прямо-таки с благоговейной почтительностью. Даже до того, как было закончено первое либретто, Штраус начал строить планы дальнейшего сотрудничества с Цвейгом. Он вспомнил старую идею «Семирамиды» и писал, что согласен и на любой другой сюжет, лишь бы героем был «принц или мошенник, но никак не добродетельный слюнтяй или страдалец».
И тут вышел закон против евреев, и Цвейг, который был крупным представителем своей религии и автором библейской драмы «Иеремия», [292] сразу понял, что его ждет беда. Штраус был с ним не согласен по следующим соображениям: нацисты, разумеется, не собираются выполнять свои угрозы; Цвейг – австриец, и его труды не подлежат запрету; положение самого Штрауса достаточно прочно, чтобы он мог настоять на своем. Но все-таки он написал Цвейгу 24 мая 1934 года: «Я прямо спросил доктора Геббельса, выдвигают ли против вас «политические обвинения», на что министр ответил отрицательно. Так что не думаю, что у нас будут трудности с «Морозус» (первоначальное название оперы). Но я рад слышать, что вы «не позволяете втянуть себя в это дело». Все попытки смягчить арийскую статью закона разбиваются об ответ: «Это невозможно, пока за границей ведется лживая пропаганда против Гитлера!»
Во время пребывания в Байрёйте Штраус «под строгим секретом» сообщил Цвейгу, который в то время работал в Лондоне, что он находится под надзором, но что его образцовое поведение расценивается как «правильное и политически безукоризненное». Но при чем тут было нейтральное поведение? Штраус обманывал самого себя и одновременно морочил голову Цвейгу. Он сообщил Цвейгу не всю правду. Когда Геббельс приехал к Штраусу в Ванфрид, где он тогда находился, чтобы обсудить новую оперу, Штраус, сохраняя полную серьезность, сказал ему, что не хочет создавать трудностей ни для Гитлера, ни для самого министра пропаганды и готов отказаться от постановки оперы. Но, предупредил он, это вызовет крупнейший международный скандал, который не пойдет на пользу рейху. Геббельс уклончиво ответил, что он может заткнуть рот газетам, но не может гарантировать, что во время премьеры кто-нибудь не бросит на сцену газовую бомбу. Он предложил, чтобы Штраус послал текст оперы Гитлеру. И если Гитлер не найдет в ней ничего предосудительного, он, наверное, разрешит ее постановку. Мы не знаем, прочитал ли Гитлер эту безобидную комедию, но он дал согласие на постановку «Молчаливой женщины» и даже заявил, что сам будет присутствовать на премьере.
Ознакомительная версия.