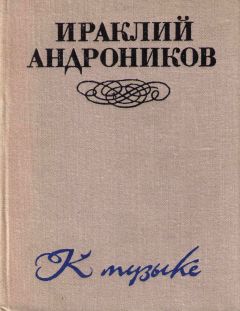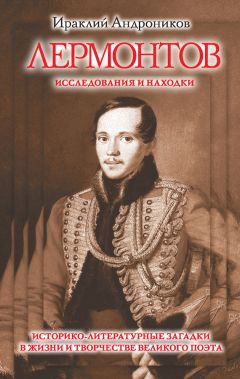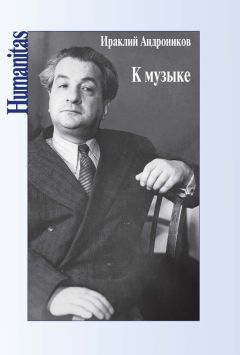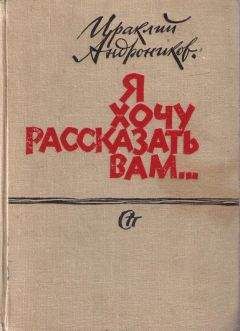Но журнал-то прочел не один я. Прочли и те, кто ходил на мои концерты. И вот несколько дней спустя в Коммунистической аудитории МГУ мне подали на эстраду записку:
«Расскажите, как вы в первый раз выступали с эстрады».
Я спрятал записку в карман и собрался уже объявить что-то другое, когда какой-то пожилой человек прямо с места спросил:
— Что вы убрали в карман? Что там написано?
Я сказал:
— Меня просят исполнить рассказ, а у меня нет такого.
— Какой рассказ?
— О том, как я первый раз выступал на эстраде.
— Простите, такой рассказ есть: Александров пишет о нем.
И вдруг весь зал начал требовать:
— Первый раз на эстраде!
Что было делать! Оставалось либо уйти, либо исполнить требование. Но как? Оправдываться? Вызвать жалость?
Стыдиться? Сетовать на судьбу? Нет, Я решил рассказать эту историю весело, взглянув па нее другими глазами.
И в ту же минуту начал, как и сейчас начинаю: «Основные качества моего характера с самого детства — застенчивость и любовь к музыке. С них все и началось…»
Рассказ сложился под хохот аудитории. Рассказывал я так, как и теперь рассказываю, как рассказывал с небольшими отклонениями все тридцать лет. II все же после концерта оставалась горечь в душе. Успокоился я только в тот вечер, когда исполнил этот рассказ в Ленинграде с эстрады того самого Большого бело-колонного зала, на которой я тогда провалился. И слушала меня ленинградская публика, в том числе постаревшие оркестранты, которые в тот злополучный вечер играли Танеева…
Недавно впервые попробовал записать эту историю — посмотреть, как она выглядит на бумаге.
Записал.
И решил напечатать.
ВОСПОМИНАНИЯ О БОЛЬШОМ ЗАЛЕ
Для меня до сих пор Ленинградская филармония — мера всего высокого, самого совершенного, любимое на земле место. Пусть я сам выступаю теперь каждый год по нескольку раз в этом зале со своими рассказами (и уже не проваливаюсь), и даже с рассказом о том, как я здесь провалился, — нет, слушая музыку или выходя на эстраду, я испытываю здесь какое-то непостижимо благоговейное чувство.
Недавно приехал в Ленинград выступать. Захожу в дирекцию под вечер, прошу разрешения пройти через хоры — там, в конце, у них небольшой музей.
— Нет, — говорят, — погодите, сейчас репетирует сам Евгений Александрович Мравинский.
— А я тихонько!
Открыл дверь — и был ввергнут в ликующий мир — «Лоэнгрин», Вагнер, вступление к третьему акту, за которым чудятся турнир, сверкание доспехов, рыцари.
Дошел до конца хоров и остановился на том самом месте, откуда в юности, многие годы подряд, стоя и глядя вниз, слушал великую музыку.
Мравинский!.. Высокий и статный (даже и сидя). Свободный. Строгий. (Отложил партитуру Вагнера).
— Последнюю часть Четвертой симфонии Брамса! Пожалуйста…
В каждом своем проявлении он снова открывался для меня как артист в высоком значении этого слова. Четкая экономная пластика, элегантная легкость в движениях — кисти, локтя, плеча. Заглядывая в партитуру, он подчеркивал синкопы, акценты, выравнивал звучности. То палец поднимет, то брови или возьмет руки к груди — остановит оркестр, произнесет несколько слов. И снова, отзывчиво, чуть по-другому повторяются те же самые такты. По-особому раскрывалась в этой замедленности, благодаря остановкам этим, музыка Брамса — благородная, исполненная глубокой мысли, драматизма, мощи, ясности, строгости, чистоты… И как прекрасно на нее отозвался поэт:
Мне Брамса сыграют, — я вздрогну, я сдамся!
И вдруг музыка пронзила меня! Потрясла! Как в молодые годы мои, когда впечатление превращалось в событие жизни, когда, казалось, ты внезапно вырос, стал чище, умнее… Как и прежде, я стою над оркестром. Справа. Возле огромной белой колонны с капителями-лотосами и вижу сверху строгие ряды пустых кресел партера, красные драпировки, сине-желтое сверкание люстр.
Репетиция кончилась, Мравинский встал, набросил на плечи пиджак, сделал еще несколько указаний на вечер и вышел. За ним — музыканты. Все опустело. Я продолжал стоять…
Здесь я любил. Любил музыку. Испытывал величайшую радость от согласного звучания оркестра, от каждого аккорда, от каждого инструмента в нем. Следил за движением музыки, стремясь уловить структуру, динамику, контрасты, главную мысль, побочные эпизоды. Учился оценивать раздельно музыку и ее исполнение. Какое великое испытываешь наслаждение, когда все совмещается сразу в твоем увлеченном и каком-то особенно емком сознании-слухе!
Постоял. Потом спустился в партер.
С этим залом связана жизнь целого поколения — поколения моих ленинградских сверстников, с которыми я встречался в концертах, делился впечатлениями, слушал их мнения… Здесь начинались судьбы. И великие судьбы.
Помню первое исполнение Первой симфонии Шостаковича. Это было 12 мая 1926 года. Собралась самая музыкальная публика. Концерт начинался симфонией Шостаковича. Дирижер Николай Малько — он был тогда главным — поднял палочку. В полной тишине пробормотала засурдиненная труба, сонно откликнулся фагот, заговорил кларнет. И развернулась торопливая дискуссия инструментов, где каждый хотел сказать все сначала. Потом в остром ритме торопливо и как бы шутя кларнет принялся излагать грациозную маршеобразную тему.
И вот чего почти никогда не бывает: уже начало этой никому не знакомой музыки сразу показалось и удивительным, и прекрасным. С каждым тактом открывался музыкант небывалого мышления, таланта, характера, облика, личности, стиля, способа выражения.
Суждения о симфонии были разной горячности. Но никто не усомнился в выдающемся даровании девятнадцатилетнего автора, даже родные других композиторов-ленинградцев, чью музыку должны были играть во втором отделении. Зал аплодировал Дмитрию Дмитриевичу долго, ровно, признательно. Как-то все понимали, что присутствуют при событии особом. И Шостакович выходил и кланялся, как и теперь, — скромно и торопливо.
А сколько потом аплодировали ему в этом зале! В 30-е годы. И позже, когда он уже приезжал в Ленинград из Москвы на премьеры своих симфоний.
Если представление о Шостаковиче не может исключить из памяти даже тот, кто не слушает музыку и не любит ее, что же должны сказать мы, соотносящие свое понимание искусства и жизни с музыкой Шостаковича, с его беспредельно честными, смелыми, сложными и ясными признаниями, выраженными языком музыки?! Постоянное чувство, что я — современник Шостаковича, никогда не оставляет меня. И это кажется мне совершенно естественным.
12 февраля 1927 года до отказа переполненный зал торжественно, стоя встретил Сергея Сергеевича Прокофьева; он тогда приехал из-за границы. Его музыке были посвящены два вечера. Он превосходно сыграл свои фортепианные концерты — Второй и Третий. Многим его музыка казалась тогда дерзкой, сокрушающей привычные представления о нормах музыкального языка. Даже Классическая симфония воспринималась только как острая пародия на классику — на Гайдна, на Моцарта. А теперь сама стала классикой…
По-моему, все музыканты города были тогда в филармонии.
Вообще профессионалы — композиторы, дирижеры — на первые исполнения съезжаются обязательно. И не только слушать новинки, но и те сочинения, которые написаны в прежние времена, но у нас еще ни разу не исполнялись. Так, в Ленинграде проходили «премьеры» старинных мастеров, «премьеры» симфоний Малера, Брукнера, редко исполнявшейся музыки Берлиоза. Берлиоза тогда играли довольно редко, а главное, все одни и те же произведения.
И тут надо вспомнить огромную заслугу Александра Васильевича Гаука. Он первый продирижировал «Гарольда в Италии» и Траурно-триумфальную симфонию, исполнял «Лелио», «Реквием» Берлиоза. Вообще он тяготел к большой форме.
Начало его концертной работы было нелегким. Назначение Гаука в филармонию на пост дирижера совпало с тем временем, когда один прославленный на весь мир дирижер сменял в этом зале дирижера, знаменитого еще более. Это испытание было для Гаука трудным, но, мне кажется, важным для его творческого формирования.
В России до революции были великолепные дирижеры — Рахманинов, Кусевицкий, Сафонов… Но не было дирижерской школы. Советская школа в 20-х годах только еще возникала. Дирижеры нынешнего старшего поколения — Мравинский, Николай Рабинович, Мусин, Грикуров — все они ученики Гаука. У Гаука учились рано погибший, огромного дарования дирижер Евгений Микеладзе и главный дирижер Большого театра Союза ССР покойный Мелик-Пашаев. Руководитель Государственного симфонического оркестра СССР Евгений Светланов тоже его ученик.
Ученики, в свою очередь, воспитали отличную смену: Николай Рабинович — Юрия Симонова и Нэеме Ярви, победителей конкурса молодых дирижеров мира, Мариса Янсонса; Илья Мусин — великолепного дирижера Юрия Темирканова, возглавляющего ныне другой симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии. (У Ленинградской филармонии два оркестра!) Это как бы дирижерские внуки Гаука. Так что в создании советской дирижерской школы у Гаука заслуги огромные!