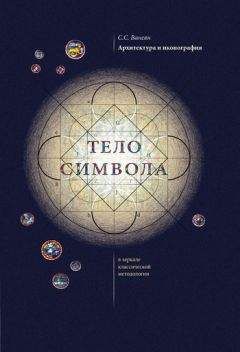Ознакомительная версия.
И наконец, самый замечательный случай – «архитектоническое воспроизведение архитектуры», то есть представление какой-либо постройки средствами постройки другой, основное назначение которой – быть или прямой копией, или свободным напоминанием. Тут возможны варианты: данная постройка может быть просто образцом-экземпляром (шведский крестьянский дом на выставке в Париже), иллюстрацией (копии африканских построек в вольерах животных в зоопарке) или служить целям демонстрации (все деревянные модели будущих построек или Ворота Иштар в Берлинском музее)[45].
Но еще интереснее – «формирование среды средствами изображающей архитектуры»[46], наилучший пример чему – всякого рода кулисы и декорации, в первую очередь театральные. Причем существенно то, что определяющим является именно средовой принцип, когда от места зависит смысл сооружения: греческий храм, сооруженный на театральной сцене, будет всего лишь «архитектурным изображением» храма, а не самим храмом, потому что, добавляет Андре, «у него нет никакой иной цели» (кроме как изображать храм). Существеннейший момент: изобразительная функция преобладает над всеми прочими. Можно сказать, что это самая сильная модальность архитектуры, причем полученная ею извне и лишающая ее собственного, можно даже сказать, онтологического статуса. Архитектура как имаго, симулякр, эйдолон, имитация, репродукция, двойник, внешне неотличимый от подлинника. Единственный критерий распознавания – «место действия», которым могут быть не только театральные подмостки, но и, например, парковые пространства со своими руинами, китайскими деревнями и т.п., где только знание, зачем все это строилось, позволяет понять, что это такое[47].
Здесь возникает желание спросить: а не является ли проблема цели тоже иконографической? Вопрос цели – вопрос направленности, буквально нацеленности, прежде всего, содержания постройки, построения, акта возведения здания, порождения некоторого предмета, находящегося в соответствующей среде, которая может быть, в том числе, и социальной. Только в этом смысле правомерен вопрос, задаваемый обычно изображению, а не зданию: что это такое? Цель и содержание, понятые как значимый состав сооружения, во взаимодействии друг с другом и составляют единый предмет иконографического изыскания[48].
И все-таки для Андре иконография – это именно изобразительное содержание; ведь мы различаем два вопроса: что данный предмет представляет и что данный предмет представляет собой? Некий предмет может представлять, репрезентировать другие предметы, быть их образом. Представлять собой, то есть с помощью себя, – значит быть условием проявления, существования чего-либо, что без этой вот конкретной предметности лишено наличного бытия. Как правило, таковыми сущностями являются сущности идеального, нематериального плана, в том числе и ментального: замысел, потребности, желания – все то, что определяется целеполаганием. Не позволяя себе подобные теоретические выкладки (они принадлежат нам), Андре, тем не менее, предлагает четко различать два плана содержания, в том числе и в архитектурном произведении: собственно изобразительно-иллюстративную часть и план функционально-средовой. Только в первом случае можно говорить об иконографии, второй случай – в ведении того, что по-немецки именуется Sachkunde, то есть знание самого предмета, способность разбираться в предмете, компетентность. Не случайно Андре анализирует архитектуру вкупе с декоративно-прикладным искусством: в этом смысле архитектура тоже прикладывается к определенной задаче, роли внутри столь же определенного контекста. Знание этого контекста еще не есть иконография, так как она имеет дело с изобразительным, скажем шире, художественным материалом. Вновь и вновь звучит мысль, что предмет может быть носителем изображения, сам таковым не являясь (резная кафедра что-то значит как предмет церковной мебели, но на ней могут быть помещены сцены Страстей, которые только и являются предметом иконографических штудий, но вовсе не сама кафедра)[49].
Форма не может не участвовать в содержании. Любая художественная форма – «выражение и значение», форма всегда что-то значит, в том числе и некую репрезентацию, изображение. И только последнее – область иконографии, которая вслед за «целевым значением» оставляет за пределами своей компетенции и «формальное значение»[50]. Иначе говоря, существуют три, по крайней мере, типа значения, согласно которым тот же Берлинский музей Шинкеля будет значить и «музейное здание» (цель, функциональное значение), и «античный храм» (изобразительное содержание, репрезентирующая символика), и «стремление к возвышающему образцу» (формальная выразительность). И все равно это будет только часть общего содержания данного здания, ведь необходимо учитывать и материальную культуру, и биографический материал[51].
Необычайно лаконичная и крайне содержательная заметка Андре достойна самого пристального внимания. В ней присутствуют практически все аспекты интересующей нас темы и практически все имена. И главнейшая заслуга Андре заключается в выяснении фактически единственного прямого предмета иконографии. Таковым в любом случае может быть только изображение.
Второй существенный момент – различение архитектуры изображаемой (более легкий вариант для исследования) и архитектуры изображающей (источник основных проблем). Задача и границы иконографии архитектуры – описание механизмов изобразительности, но никак не содержания подобных изображений, что есть цель Sachkunde, то есть соответствующей дисциплины, специализирующейся на данном конкретном предмете и предполагающей компетентность в соответствующей области, знание самого предмета. Иначе говоря, смысл следует искать не в изображаемом предмете, а в изображении предмета. Другими словами, архитектура как изобразительное средство освобождается от бремени «смыслоношения».
Такой подход имеет и методологический аспект, и сугубо эстетический, теоретический. В первом случае мы должны решить для себя: можем ли мы уклоняться от анализа смысла, если он не содержится непосредственно в предмете анализа? Хотя что значит «непосредственно»? Достаточно ли просто перенести добытое понимание самого предмета на его изображение? Каков тогда смысл самого акта изображения? Только ли замена отсутствующего объекта?
Но предмет просто существующий и предмет репрезентируемый являются разными феноменами. Точнее говоря, только в последнем случае он и будет феноменом и, значит, источником смысла. И если изображающая архитектура представляет некоторый предмет, то она наделяется не только его смыслом, но и просто существованием, обеспечивая среду проявления, являясь средством, способом его (предмета) бытия как предмета интенционального.
Образ представления (само изображение) превращается и в образ существования (существительное оказывается наречием). Способ репрезентации, таким образом, описывает, репрезентирует и того, кто стоит за этой репрезентацией и за этим предметом. Заслуга Густава Андре, на наш взгляд, состоит в том, что он накануне восхождения иконологического солнца (статья написана в 1938 году) в общем виде обозначил пределы иконографического подхода. Как выяснилось, эти пределы имеют архитектурные и одновременно феноменологические очертания. Кроме того, стали возможными преемственность и переход от иконографии к иконологии (переходность заключена в самом предмете исследования: важно выяснить направление и цель перехода, и его механизм).
Наконец, наблюдения немецкого ученого ценны и в том смысле, что позволяют говорить не столько о закате иконографического метода, сколько об «иконографических сумерках», так как остаются такие области историко-художественного знания, где предметная компетентность, несомненно, превышает возможности сугубо изобразительной выразительности. То, о чем сообщает сам предмет – порой независимо от своего изображения, – выходит далеко за пределы собственно искусства. И вероятно, именно архитектура может быть санкцией на подобное преодоление, превышение изобразительности.
Мы так основательно остановились на заметке Густава Андре только по той простой причине, что сама традиция рефлексии на тему иконографии архитектуры почти полностью отсутствует. Если не считать довольно беглого экскурса Бандманна в его знаменитой книге, остро полемической историографии Зедльмайра в его «Возникновении собора», идеологически небезупречного эссе современного исследователя Пауля Кроссли о Панофском, Бандманне и Зедльмайре, то не остается ни одного мало-мальски значимого изыскания на тему иконографии и архитектуры. Единственное исключение – компендиум Генриха Лютцелера «Восприятие искусства и наука об искусстве» (1975), во втором томе которого, в части, посвященной анализу изобразительного мотива, присутствует довольно обширная глава, посвященная смысловому анализу архитектуры (см. Перспективу II).
Ознакомительная версия.