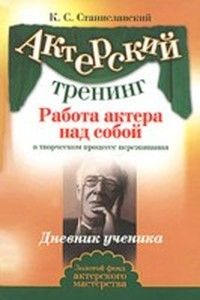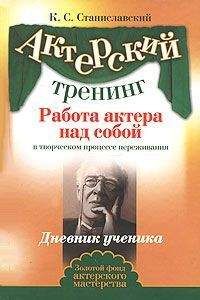Готовя книгу к изданию в родной стране, писатель Станиславский должен был еще пропустить самые дорогие для него мысли сквозь плотные идеологические фильтры 1937 гола. В феврале того года А. И. Ангаров, ответственный работник аппарата ЦК ВКП(б), настойчиво предупреждает Станиславского о том. что "туманные термины: "интуиция", "подсознательное", следует раскрыть, показать их реалистическое содержание, конкретно рассказать людям. что такое это художественное чутье, в чем оно выражается" . Автор книги предложенного насилия над собой не совершил, ничего не "раскрыл" и "не разъяснил", но ответ великого режиссера ответственному чиновнику производит бесконечно грустное впечатление: "Есть творческие ощущения, которые нельзя отнимать от нас без большого ущерба для дела. Когда что-то внутри (подсознание) владеет нами, мы не отдаем себе отчета в том, что с нами происходит... Если б мы сознавали свои действия в эти минуты, мы не решились бы их воспроизводить так, как мы их проявляем. Я обязан говорить об этом с артистами и учениками, но как сделать, чтоб меня не заподозрили в мистицизме?Научите!" "Работа актера над собой" вышла осенью 1938 года. Ни "подозрений" в мистицизме, ни живой дискуссии книга не вызвала - некому было дискутировать. Старый кошмар, смутивший душу Станиславского еще на заре нового века, когда он задумывал систему, реализовался сполна и в формах, которые даже его фантазия не могла вообразить. Книгу возвели в святцы, а систему стали "вводить принудительно, как картофель при Екатерине". если воспользоваться известным выражением Б. Пастернака. Как и в случае Маяковского, это была "вторая смерть", в которой сам Станислаиский не был повинен. Нужны были годы (и какие годы!), чтобы советский театр вновь повернулся к идеям Станиславского, почувствовал их реальные очертания и действительный объем. Совокупными усилиями практиков, театроведов и педагогов было сделано достаточно много для изучения наследия Станиславского, издания его работ, хотя и сегодня приходится признать, что в плане развития системы и понимания самых сложных ее областей мы находимся пока что в приготовительном классе.
За рубежом идеи Станиславского стали известны гораздо раньше, чем вышла книга в переводе Хэпгуд, Они были занесены сюда в разное время актерами, которые играли в МХТ или в его студиях, или теми, кто непосредственно сталкивался в работе со Станиславским. И здесь возникли старые сложности. Шарон Мари Карнике, которая взяла на себя труд сопоставить русскую.и английскую версии "Работы актера над собой", справедливо пишет, что еще до выхода книги между Ли Страсбергом и Столлой Адлер, двумя истолкователями учения Станиславского, произошел "непоправимый раскол". Он "отразился на всем американском театре", хотя, как отмечает исследовательница, "работы Страсберга и Адлер, если взять их в совокупности, отражали в одном случае идеи раннего Станиславского, а в другом - позднего, то есть представляли собой поперечный срез меняющихся воззрении основоположника учения" . В накаленной атмосфере дискуссий вокруг системы люди театра ждали слово самого Станиславского. Книга "An Actor prepares" удовлетворила этот интерес. Режиссеры. актеры и педагоги не только в США, но и во многих иных странах (с английского последовали перевиды на испанский, французский, итальянский и другие языки) стали представлять систему в том виде, в каком она была предложена в переводе Хэпгуд. Остается вопрос, насколько адекватно был понят Станиславский в английском переложеии, тем более что в 1936 году была опубликована только первая часть книги, а вторая - "Работа над собой в гворческом процессе воплощения" - вышла лишь через тринадцать лет, в 1949 году. Та же Ш. Карнике считает, что система была воспринята односторонне, в основном как теория подготовки актера к игре, как духовно
психологический тренинг. Проблемы сценической речи, словесного действия, темпо-ритма, выразительности тела. то есть все то, что неразрывно связано в учении Станиславского с духом творящего артиста, долгое время оставалось неизвестным. Таким образом,-делает вывод Ш. Карнике,-в США не менее тринадцати лет внутренняя работа актера выглядела как вся система Станиславского" . "Переживанне" оторвалось от "воплощения", начались дискуссии, на новой почве актуализировались старые споры. Разгорелись страсти покруг понятия "эмоциональная память" и тех "иррациональных" источников, из которых должен черпать тот, кто действует в освещенном пространстве сцены. Копья скрестились по поводу соотношения "системы" и "метода физических действий". В 1958 году Роберт Льюис издаст в Нью-Йорке книгу "Метод или сумасшествие" ("Methood or Madness"), в которой пытается распутать противоречия, накопившиеся вокруг системы и "метода" в течение десятилетий.
В последние годы (особенно в 50-е и 60-е) идеи Станиславского воскресают заново в мировом театре. Их возрождают крупнейшие режиссеры. Они развивают эти идеи поверх театроведческих барьеров и текстологических тонкостей. Некоторые из этих режиссеров учились в советской театральной школе и читали Станиславского по-русски, другие прочитали его по-английски, третьи восприняли его идеи опосредованно, через "воздушные пути" искусства. Систему, как оказалось, совсем не надо было "насаждать", к ней приходили естественно, по тем самым причинам, о которых творец ее писал в свое время в книге "Моя жизнь в искусстве":
"...в разных концах мира, в силу неведомых нам условий, равные люди, в разных областях, с разных сторон ищут в искусстие одних и тех же очередных, естественно нарождающихся творческих принципов. Встречаясь, они поражаются общностью и родством своих идей" .
Общность и родство мирового театра продлили жизнь идеям Станиславского. Его систему стали воспринимать именно как культуру, в которой поставлено несколько самых принципиальных вопросов относительно искусства актера. Ежи Гротовский в книге "Бедный театр" скажет, что прямая обязанность новых поколений художников - находить собственные ответы на вопросы, поставленные Станиславским.
Эти "ответы" обеспечивают непрерывную жизнь системы в истории театра.
Станиславский боялся высокопарных рассуждении об искусстве. Его смущало, что. как только речь заходит о творчестве, "все тотчас напрягаются и становятся на ходули". Говорить и писать об искусстве "по-научному", так как о нем говорили и писали в годы его юности присяжные поверенные, он считал "скучным и бесцельным". Еще больший ужас наводили на него "требования диамата" , которые готовились предъявить ему на старости. Прекрасно сознавая таинственную сущность искусства. он тем не менее воспринимал театр как радостную работу, освещенную светом разума. Он полагал, что артисту подарено то, чего не имеют многие люди на земле, а именно свой дом, свой храм. который, правда. он же, актер, заплевывает п оскверняет. Он очень ценил в артисте чувство правды, наивность, веру и воображение, приближающие творца к природе. Он сам был награжден "каким-то вечным детством", подобно всем подлинным поэтам. Считая себя характерным артистом, он верил, что индивидуальность исполнителя все равно пробьется через душу воплощаемого им человека. Он думал, что "сценическая индивидуальность-это духовная индивидуальность прежде всего. Это тот угол зрения художника... та художественная призма, через которую он смотрит на мир. людей и творчество" . Он искал в театре жизнь, любил сценичное, ненавидел "театральное". Очень высоко ставил Артиста и презирал актера-"душку". ремесленника, кокота, представляльщика, дилетанта (как он его только не называл!). Свою жизнь в искусстве он посвятил тому, чтобы придать актерскому труду черты серьезной профессии. Он разработал основы этой профессии, ее этику, ее технику. Он знал, что любая техника мертва без затраты живой души артиста. Он бесстрашно начал исследовать пути, ведущие к "бессознательному", полагая, что именно там находятся запасы неисчерпаемой творческой энергии, той самой, что потрясает, оглоушивает, идет поперек привычной логики, перечеркивает любой психологизм и открывает те источники в душе человека (и артиста, и зрителя!), которые делают спектакль и актерскую игру "событием личной жизни".
Станиславский, рассказывая в "Моей жизни в искусстве" об Айседоре Дункан, вспомнил ее слова о "моторе", не положив который в душу, она не могла танцевать. Станиславский всю жизнь отыскивал сходный душевный "мотор" для драматического артиста. За год до смерти. в 1937 году, беседуя с С. М. Михоэлсом, он спросит у него с чего начинается полет птицы. "Птица сначала расправляет крылья". - "Ничего подобного,- возразит Станиславский,- птице для полета прежде всего необходимо свободное дыхание, птица набирает воздух в грудную клетку, становится гордой и начинает летать".
Он хотел сделать профессию артиста гордой, хотел поставить актеру свободное дыхание, вооружить его "манками", вызывающими творчество "волшебницы природы". Он понимал, что "манков" этих гораздо больше, чем он открыл, и сознавал, что главные из них художникам еще неизвестны. Под его карандашом возникал то строгим храм, то трубы мощного органа - эти пластические образы внутренне соотносились с представлением Станиславского о "человеке играющем". За неимением лучшего слова он назвал свою веру в искусстве "системой". На полях последней рукописи он отчеркивал важные куски текста, страдал из-за их несовершенства и помечал сбоку: "Досказать".