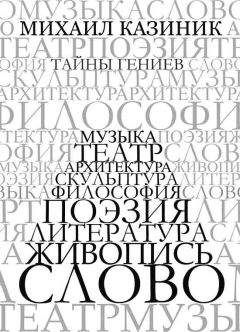Тех самых коронных, «образцовских»?
а. На второй год обучения пришла в класс Таисия Сыроватко. Была такая в Ленинграде певица, веселая, добродушная. Голос у нее был как баритон даже. Я ее спрашиваю: «Ну, Таисия, как ты берешь низкие ноты?» Она ответила: «Лена, ну вот знаешь, как у мужиков бывают сапоги с гармошкой? И вот так шею себе представь — с гармошкой — итак: „гхааа!“ сделай». Я попробовала — и открылось все! Вот так я научилась. Смешно, конечно, но было так! И это «гхааа!» мне напомнило Биргит Нильсон. Я у нее спрашивала: «Как ты такие кинжальные верха берешь?» Она в ответ: «Элена, не поверишь. Я была простужена, больна просто вдрызг! А надо петь „Саломею“ или еще что-то этакое. И я впала в отчаяние. Стала распеваться, ничего не получается, потом думаю: дай-ка я сейчас прямо такое „гхааа!“ сделаю. Я сделала — и попала куда-то в голову! И запомнила! И с тех пор стала так петь и стала Биргит Нильсон. А то никто меня и не знал!». Еще у меня была смешная история с Джоан Сазерленд. Я же у всех всё всю жизнь выспрашивала. Я говорю: «Как ты делаешь трель?». А она отвечает: «Моя мама на кухне это делает гораздо лучше меня». Генетически у них трель. Вот такие смешные вещи.
Теперь, наверное, вполне логично сказать, что такое обучение. Потому что вас когда-то учили, а потом вы стали учить. Чему можно научить, чему нельзя научить? Зачем нужны мастер-классы? Что вы делаете со своими японцами и японками, с которыми вы теперь полжизни проводите?
огу сказать: технике пения научить можно, а музыке научить нельзя. Это однозначно. Поэтому, когда я провожу мастер-классы, я учу технике пения. А когда мне говорят, что есть мастер-классы, где учат музыке, я не верю. Потому что если человек талантливый и одаренный, то он музыкой живет, и учиться музыке не надо. Потому что она уже живет в нем, и он должен только научиться технически ее выражать. А если в душе ничего не живет, то учи-учи — ничему не научишь. Нужно учить в комплексе, конечно, и дыханию, и опоре, и фразировке — всем-всем техническим приспособлениям для музыки, чтобы об этом не забывали! Потому что иногда технически поют правильно, а я считаю, что наступила болезнь века: технически подкованы все, все поют, и берут все ноты, а музыки нет. И плюс ко всему, еще они не живут в тех пластах таинства, в которые нас допустили. А как присоединить к опере и к камерной музыке таинство — этому никак не научить. А почему это ушло? Ведь среди больших певцов иногда даже в прошлом можно назвать людей, у которых чего-то там недоставало, а это было. Я имею в виду ощущение слоя, где делается искусство. Там только искусство и делается — оно в другом месте не живет. Люди с такими ощущениями раньше встречались чаще. Взять хотя бы Надежду Андреевну Обухову. К ее технике пения можно предъявить какие-то претензии, но по искусству претензий нет. Слушаешь — и понимаешь, что такое искусство. И хочется плакать. Почему это ушло? С чем связана болезнь века? Ведь в молодом поколении есть тяга к глубине, люди получают счастье от соприкосновения с вами — значит, должны понимать, что это не просто шарм, а гораздо большее что-то. А шарм — это только верхушка, за этим очень много всего. Не знаю, может быть сейчас безверие какое-то, духовности мало в людях. Вы знаете, меня спрашивают: когда я училась, где хотела петь? А я нигде не хотела петь, я хотела научиться петь. А сейчас приходят и говорят: «Я буду петь в „Ла Скала“!» Или приходят учиться: «Я хочу поехать на гастроли туда-то и туда-то». А я плакала оттого, что, слушая свои записи, понимала, какая разница между тем, что я внутри слышу, и тем, что у меня получается. Я плакала от недостатка техники. Мне так хотелось научиться всему! Все эти тонкости в душе, которые у меня были, — мощь, или страсть, или нежность — все так перемешано! Мне столько нюансов надо было передать, а как передать, не знала. Я страдала оттого, что мне не хватало техники. А сейчас люди об этом не думают. Заботятся не о том, как себя выразить, а как сделать карьеру, как заработать деньги. Я никого не осуждаю, потому что все хотят заработать деньги. Это нормально. Это у нас считалось зазорным в свое время говорить про деньги, про заработки, когда я мешками возила сюда валюту и носила в Госконцерт — собственными ручонками ее отдавала. Но я и в этом находила счастье, потому что я думала: «Это, конечно, нехорошо, что у меня все забирают, это неправильно, но зато я не продаю свое искусство! Я пою для Господа. Бог дал мне, а я отдаю ему обратно». Душевная чистота!
Вы сказали, что не хотели где-то петь, а стремились научиться петь. Но, с другой стороны, была Образцова, которая, когда ей предложили поехать на стажировку в «Ла Скала», сказала: «Не поеду на стажировку. Когда-нибудь буду там петь!» Но это, наверное, другое, это чувство собственного достоинства, вы тогда уже, наверное, ощутили, что вы уже состоятельны как артистка. Есть грань между гордостью и чувством собственного достоинства — это совсем разные качества.
а. К тому же я всегда была очень русская. И в душе я очень русская. И я даже, по-моему, в книжке написала, что, чем больше я езжу, тем больше становлюсь русской. И тем больше у меня гордости оттого, что я русская. Потому что я принадлежу к тому искусству, которое родила Россия.
Да, только я думаю, что вы и я понимаем эту русскость и принадлежность к русскому искусству не совсем так, как многие это понимают. Потому что вы принадлежите к русскому аристократическому искусству, которое начинается от Глинки и которое где-то кончилось. Его сегодня практически нет. Это рождает в человеке определенную гордость и чувство собственного достоинства. Но есть ведь и другие какие-то слои, которые мы с вами не принимаем, и люди из этих слоев тоже считают себя русскими.
ет, когда я считаю себя русской, я говорю о Достоевском, о Пушкине, о Шаляпине. О Чайковском, о Серове, Рахманинове, Свиридове.
Отвлеку вас отступлением. В спектакле «Турандот», который сейчас идет в Большом, есть одно очень важное место. Императора поет итальянец Франко Пальяцци — педагог по вокалу. Он немолодой певец, который карьеру свою закончил, поет несколько фраз. С ним в зал приходит сразу вся вокальная Италия, вся ее культура! Фразировка такая, какой нет ни у кого, — что бы они ни делали! И ему отвечает несчастный Калаф, которого он убивает своими фразами. У Калафа такая пластика фразы, что не понимаешь ничего. Я ему говорю: «Как вы замечательно на генеральной пели!» А он отвечает: «На генеральной я так себе пел, не очень. Это в Италии не полагается — хорошо петь на генеральной. Вот на спектаклях я буду Петь — приходите!» И правда Поет.
то, действительно, удивительное что-то, что не дано никому абсолютно. И только очень большим певцам, которые в этом слое искусства творят.
И все-таки снова немножко про обучение. Потому что музыке нельзя научить, технике — можно. Вот они приходят к вам. И что с ними делать? Ведь тем, у кого музыки нет, наверное, так трудно в глаза смотреть.
ы знаете, если бы была моя воля, я бы взяла очень мало людей, которых обучала бы пению. Так же, как и музыке. Потому что в консерваториях очень много людей обучается ненужных. Но я понимаю, что их берут, потому что иначе не выучить нужных! И поэтому приходится терпеть, зубы сжимать и заниматься. Но главное, что это ужасно отражается на моем горлышке. Я сейчас целое лето болела. Особенно устаю, когда занимаюсь с мужчинами, потому что мужчины вынимают из меня прямо все. Потому что я начинаю им показывать — и баритонам, и басам — а тут же еще в очереди и колоратуры, и сопрано, и меццо-сопрано. И всем я показываю. Горло то расширяется совсем как труба, как это «Гхааа!». И почему-то у меня очень хорошо получается учить колоратурной технике — самое лучшее, что у меня получается. Может быть, потому что есть опыт работы с девчушками этими моими токийскими. Но все равно среди безумного количества ненужного материала всегда находится кто-то стоящий, даже когда я езжу на мастер-классы на какие то две недели, то все равно из тридцати человек пять-шесть могут попасться приличные. Это отдушина, я жду.
Но когда вы начинали учиться пению, не все сразу получалось?
икто не думал, что из меня что-то получится. И, если бы не нежное отношение со стороны моего педагога Антонины Андреевны Григорьевой, которая была сама очень хорошей певицей, из меня бы ничего не вышло. Она учила меня не только музыке, не только пению, она была мне как вторая мама. Она смотрела, как я одеваюсь, тепло ли мне, поела ли я. Она заботилась обо мне, я всегда чувствовала эту заботу и безумно ее любила. А так как я ее любила, я ей верила, а раз я ей верила, то делала то, что она меня просит. Это очень большая работа — быть педагогом. Некоторые так себе представляют: пришла, отстучала пять часов и ушла домой. Нет, надо отдаваться совсем своим ученикам и быть им другом, помощником. Григорьева в меня верила. Она говорила: «У меня никогда не было такой талантливой и такой бездарной ученицы!». Потому что я очень трудно училась, я ничего не понимала, что она от меня хотела. Потому что я, когда пришла, уже пела, как могла. А когда она стала меня переучивать, на классические рельсы ставить, я потеряла то, что имела, а то, что она хотела, никак не могла обрести. Я просто не понимала, что она от меня требует. Целых два года я не открывала рот. Я только озвучивала грудной резонатор. Она мне говорила: «Положите сюда ручку, и нужно стонать, стонать. Леночка, вот как вы стонете?» «Ах, ммм, ах, ммм!». Так она мне ставила голос на дыхание, другими словами. О диафрагме она мне почти ничего не говорила. Она все время говорила, что нужно озвучить эту косточку. Потом я с годами начала понимать, что она от меня хотела. Потому что она таким довольно странным способом преподавала, так же, как я сейчас преподаю: она не хотела технологию вводить. Я тоже не говорю никаких этих слов элегантных, а я говорю сравнениями. Мне не хочется технические слова произносить. Потому что это все засушит, иссушит студента. А нужно фантазировать, какие-то приспособления, фантазии возбудить в человеке. И тогда им всем понятно то, что я говорю, понятно на всех языках. И все смеются, все веселые, все хотят ко мне прийти. Потом нужно заинтересовать их. Со сравнениями всё быстрее запоминается и не забывается никогда.