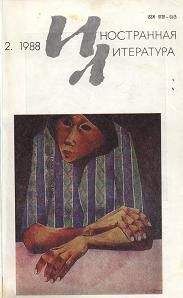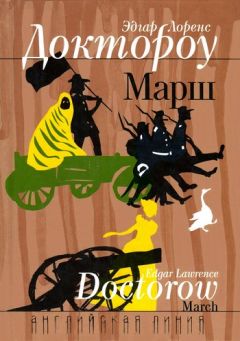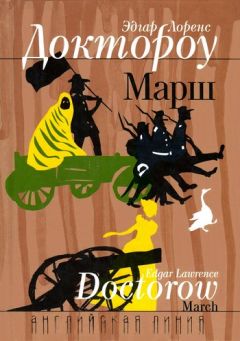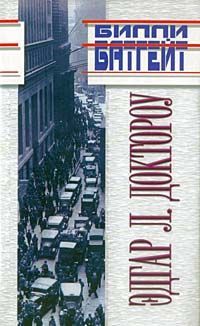Американский роман середины 80-х: «пассивные пророчества»?
Эдгар Лоренс Доктороу. Пафос нашего призвания[1]
Все писатели питают особое пристрастие к историям из жизни своих великих собратьев. Для нас это своего рода профессиональный багаж. Мы словно надеемся, что в знании биографии великих — ключ к секретам их достижений.
Вот и я в последнее время немало размышлял над жизнью большого художника, Льва Толстого, в особенности над кризисом сознания, который он пережил в возрасте пятидесяти лет. То отдаваясь на волю страстей, то следуя своим этическим воззрениям, Толстой прожил жизнь, полную противоречивых, мучительных решений.
Процесс создания художественного произведения наполнял его ликованием, но в то же время повергал в глубокое разочарование. Говорят, он даже пытался сжечь рукопись «Анны Карениной». Во всяком случае, придя в свои пятьдесят лет к выводу, что жизнь прожита бессмысленно, в одном лишь потворстве тем, кому нечем себя занять, кроме чтения, он перестал писать романы. Это его решение, правда, не распространялось на иные формы, и со временем увидели свет более скромные по объему произведения — «Крейцерова соната» или, например, «Смерть Ивана Ильича». Но главным своим делом он считал борьбу против безысходной нищеты при царизме и в этой борьбе использовал и свое общественное положение, и силу таланта. Во всю мощь звучал его пророческий голос. Страстно проповедовал он христианское непротивление злу насилием. Обучал крестьянских детей грамоте.
Так вот, по крайней мере теоретически для каждого писателя наступает время, когда жизненные обстоятельства разрушают саму идею искусства или требуют от него действенности, выхода; когда уровень общественного страдания или опасности делает невозможной обычную литературную работу с ее традиционными целями.
Даже при весьма поверхностном изучении истории литературы можно отметить большую склонность к утрате веры в Европе, где пафос искусства часто был социален. В России тому примером не только граф Толстой, ходивший в лаптях, но и молодой Достоевский и его литературное окружение, оспаривавшие все, что касалось художественной литературы, за исключением непреходящей ее огромной роли в истории и значения ее для спасения человечества. Во Франции были Камю и Сартр, чутко реагировавшие на моральную опустошенность, порожденную второй мировой войной, и создавшие настоящее литературное Сопротивление, включавшее и драму, и аллегорию, и метафизические рассуждения, и распространение листовок на улицах.
Американские писатели, за некоторым исключением, не столь страстно относятся к идее социальной значимости искусства и таким образом менее подвержены кризису сознания. Их духовные проблемы достаточно известны, но они ни в коей мере не связаны с писательской причастностью к происходящему в мире. Одиночество, полное одиночество, в той же степени, что и жизнь в обществе, составляет доминирующее условие американской литературной истории. Я имею в виду то отчаяние, которое вынудило Хемингуэя направить на себя дуло охотничьего ружья, то отчаяние, которое заставило пить и погубило Фолкнера и Фицджеральда. Все проблемы искусства для них при жизни сводились к мукам успеха или провала, и в любом случае даже осознание предела возможностей смертного, даже безысходность закоренелого индивидуализма принимались как судьба отдельной личности.
Свой роман «Воскресение» Толстой написал уже в возрасте семидесяти лет. Его ego не было столь грандиозным, как у наших американских писателей, полагающих себя в основе всего мироздания.
Поэтому, размышляя о позиции Толстого, я со всей ясностью отдаю себе отчет в его принадлежности к иной культуре. В истории американской литературы было десятилетие — тридцатые годы — когда политика в искусстве, иными словами причастность, казалось, занимала умы всех. У нас в Америке этот период воспринимается как время попусту растраченной творческой энергии, одураченной интеллигенции и плохих пролетарских романов. Мы страдаем от того, что стали идеологичны. Сегодня американские романисты неколебимы в своем решении представлять себя частными гражданами, этакими независимыми предпринимателями. У нас, безусловно, отсутствует традиция служения своей стране на поприще политики или дипломатии, которой следуют наши собратья по перу в Европе и Латинской Америке. (Иногда наши литературные предшественники напоминают скорее таможенных инспекторов). Общественную значимость нашего творчества мы воспринимаем как досадную случайность. Наша позиция хорошо сформулирована натурализованным американским поэтом У. X. Оденом, утверждавшим, что политические убеждения для писателя опаснее, чем алчность. Нас очень тревожит, что если мы руководствуемся некой заданной идеей, если у нас есть намерение проиллюстрировать определенные истины, то наше произведение получится компромиссным, не относящимся к области искусства, а лишь к области полемики. Мы же желаем, чтобы наши романы были чисто художественной литературой, и в «Войне и мире» нас не устраивает именно то, что Толстой учит нас истории. Мы говорим: да, он всегда был моралистом, а не только после пятидесяти.
Как ни странно, подобная эстетическая добродетельность приводит к тому, что представления американских писателей о самих себе отвечают сути самой американской жизни. Ведь мысль о том, что мы — независимые хозяева своей судьбы, есть национальное наследие. Ирвинг Хау, да и многие другие отмечали, что рабочие в Штатах, в отличие от своих европейских коллег, не осознают себя как класс. Они пытаются отождествлять себя не с трудом как таковым, а с тем, что получают в результате труда, с той собственностью, которую накапливают. Они могут также отождествлять себя с определенной этнической группой или с группой людей, вовлеченных в совместную общественную деятельность, но всегда это признак, выделяющий их из более крупного сообщества. Для независимого хозяина своей судьбы существует лишь движение вверх, по крайней мере от поколения к поколению. Перед ним расстилается дорога, и он волен отчаливать, если дела его не складываются, и двигаться дальше. Все это, включая представления писателя о том, что он может позволить себе в искусстве, а что нет, и составляет суть мифа об индивидуализме, которым мы руководствуемся.
По тому, как мы понимаем наши проблемы и разрешаем или не разрешаем их, судят о нашей непоследовательности и неидеологпчности. Мы по своей природе хронически подозрительно относимся к любым последовательным решениям, мы прагматики и любим «чинить» Конституцию.
Писатели не в меньшей степени, чем «синие воротнички», разделяют национальную неприязнь к интеллекту, к его пафосу, и голоса, звучащие в наших книгах, несколько ироничнее и значительно скромнее, чем толстовский «бас профундо». Взгляду с высот Олимпа мы предпочитаем полномочия заурядного свидетеля, подтверждающего только то, что видел и слышал сам. Момент, когда позиции подобной литературной добродетельности утвердились, пожалуй, настал лишь в 1940 году по выходе в свет романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Этому событию предшествовало десятилетие бурных дебатов, находивших отражение и в самих произведениях писателей, и на страницах журналов, и на конференциях. Литературная общественность боролась с проявлениями Великой депрессии в Штатах и с установлением тоталитарных режимов в Европе. Практически любое серьезное произведение этого периода было наполнено ожиданием социального кризиса. От писателей требовалось прислушаться к голосу совести, определить свою позицию. И зачастую оказывалось, что благородные поступки совершались совсем не теми, от кого их ожидали; идеалы подменялись соображениями практицизма, никуда не годные писатели создавали стоящие книги, а хорошие — писали ничтожные вещи. Но все они без исключения находились в тесном взаимодействии с происходящим в мире.
Хемингуэй сам в 1937 году написал роман «Иметь и не иметь», главный герой которого (теперь им был Гарри Морган, контрабандист из Флориды) подошел как никогда близко к выражению общественного настроения: «Человек один не может ни черта». Это — великое прозрение для младшего брата героев более ранних романов, романтически погруженных в себя изгнанников. Действие следующего романа Хемингуэя происходит в Испании, в период гражданской войны. Хемингуэй знал войну не понаслышке, он был более земным и более причастным к тому, что творилось в мире, чем Фолкнер или Фицджеральд. Но, будучи на стороне республиканцев, он тем не менее с недоверием и даже неприязнью относился к коммунистам, которые возглавили их дело. В этой оценке, оказавшейся правильной, он близок к позиции Джорджа Оруэлла в книге «Дань уважения Каталонии».
Но именно европеец Оруэлл придал своим взглядам вид политического пророчества в книге «1984». В романе «По ком звонит колокол» мы по контрасту видим, что, вероятно, человек один действительно не может ни черта, но не исключено, что это как раз и хорошо. Теперь героя Хемингуэя зовут Роберт Джордан, он, молодой американский доброволец, сражающийся в горах на стороне республиканцев, обязан обеспечить взрыв моста, занятого фалангистами. В конце концов он героически погибает в одиночку. Приняв на себя командование партизанским отрядом, он спасает товарищей ценой собственной жизни, и его личный кодекс чести становится как бы единственной непреходящей ценностью гражданской войны испанского народа.