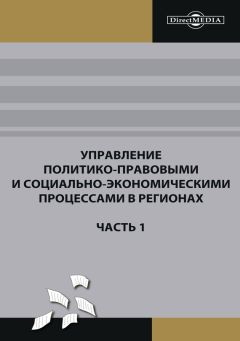Виссарион Григорьевич Белинский
Посельщик. Сибирская повесть. Соч. Н. Щ.
ПОСЕЛЬЩИК. Сибирская повесть. Соч. Н. Щ. Автора «Поездки в Якутск». С.-Петербург. В т. Конрада Вингебера. 1834. Издание А. и И. Лазаревых. III. 151{1}.
С некоторого времени в нашей литературе появился особенный род романов, которые пишутся с какою-нибудь предположенною полезною целию; эти романы называются нравоописательными, сатирическими, административными, историческими, политико-экономическими, учеными и пр.; но мне кажется, что их всего лучше назвать заказными, ибо, подобно платью и сапогам, они работаются на всякую мерку, заранее снятую. Разумеется, в изделиях сего рода басня или содержание ничего не значит, ибо служит только рамою, в которую вставляются диссертации на разные ученые предметы. Эта басня или содержание во всех романах бывает одна и та же, независимо от народа и эпохи, к которым она относится: какой-нибудь чувствительный и великодушный шут, герой добродетели вроде Эраста Чертополохова{2}, ищет руки и сердца какой-нибудь Дульцинеи; им мешают, их разлучают какие-нибудь злодеи, какие-нибудь изверги естества, в лице корыстолюбивого опекуна или жестокосердых родителей; но наши герои не унывают, и после многих разлук, неудач и опасностей соединяются навеки и начинают жить да поживать да добра наживать. Бедный читатель зевает, морщится, клянет сквозь слезы и глупого любовника, и приторную героиню, и негодяев-разлучников, которые, вопреки здравому смыслу и назло вольному мученику, мешают – веселым пирком да и за свадебку. Но не жалейте слишком этого читателя; он не в потере: венец есть награда добровольного мученичества. За свою скуку, за свою зевоту он избавляется от ужасной необходимости читать и изучать систематические ученые и учебные книги и, лежа у себя на постеле, в домашнем дезабилье, узнает, например, некоторые подробности Стрелецкого бунта при Петре Великом, узнает, что и в Камчатке бывает свое лето{3}, узнает, что Пекин – главный город Китая, что Алжир – в Африке и тому подобные истины. Наш век – чудный век: никогда удобства жизни и средства к выполнению самых дорогих желаний самыми дешевыми средствами не были так легки и доступны для всех и каждого. Скоро бедные перестанут завидовать богатым: вы абонируетесь у Семена, Эльцнера, Глазунова – и вот вам за какие-нибудь полтораста, двести рублей в год все сокровища европейского и российского гения; вы жертвуете, в продолжение шести лет, в разные сроки сто восемьдесят рублей – и, не топча порогов университетских аудиторий, не добиваясь ученых степеней, не ломая головы над немецкими и французскими грамматиками и словарями, знаете все, что знает какой-нибудь многоученый профессор немецкого университета, и между прочими диковинками знаете звание, производство в чины и лета жизни Ломоносова;{4} издается ученая книга: она вам необходима, но по своему объему дорога, не по вашему карману; не печальтесь: она выходит тетрадями (par livraisons), а эти тетради продаются по гривеннику, много по двугривенному; откажите себе в удовольствии проехать несколько раз на ваньке – и книга ваша. Слава нашему веку! Но этим еще не все кончилось: промышленность пошла далее. Вы, может быть, не знаете языков и потому не можете читать иностранных произведений; вы, может быть, человек деловой – вам некогда читать и русских книг; вы, может быть, немножко ленивы или имеете антипатию к скучным нынешним путешествиям и ко всему, что отзывается тяжелою ученостию, а между тем не хотите отстать от века и прослыть невеждою: не отчаивайтесь – к вашим услугам романы, о которых я говорил выше сего. Легкое средство! прекрасное средство! Что вам угодно знать? Историю, географию, статистику, политическую экономию, философию, физику, химию? Вы все это будете знать – уверяю вас; только не ленитесь читать романов и повестей гг. Булгарина, Греча, Масальского, Калашникова, Барона Брамбеуса и мн. др. Одному только не выучитесь вы из них – математике. Ох, эта проклятая математика! сердит я на нее: как ни бьюсь, а не лезет в голову! Гг. русские романисты! напишите, бога ради, математический романчик; уроки математики ныне очень вздорожали: ваш роман скоро разойдется!..
Но шутки в сторону; скажу серьезно слова два об этом странном явлении. Кто виновник этого ложного рода романов, этого святотатственного искажения искусства? Вальтер Скотт: поделом так нападает на него почтеннейший Барон Брамбеус{5}. Да, в этих чудовищных романах виноват один Вальтер Скотт; но не будем слишком строги к великому гению, к славе и гордости нашего века, ибо он виноват в сем преступлении так же точно, как, например, у нас Пушкин виноват в киргизских и других пленниках, как Крылов виноват в баснях Маздорфа и г. Зилова, как комедия «Горе от ума» виновата в комедии «Смешны мне люди» и пр. …{6} Разве человек, венец божия создания, хуже оттого, что обезьяна имеет с ним какое-то отвратительное сходство и беспрестанно передражнивает его? Разве искусство менее божественный дар оттого, что глупость и бездарность смешивает его с ремеслом? Разве художник менее сын неба оттого, что цеховые мастера выдают себя за художников?
Вальтер Скотт создал, изобрел, открыл, или, лучше сказать, угадал эпопею нашего времени – исторический роман. По ого следам пустились многие люди, ознаменованные печатию высокого таланта и даже гения; но, несмотря на то, он остался единственным в сем роде гением. Есть люди, которые от души убеждены, что исторический роман есть род ложный, оскорбляющий достоинство и искусства и истории. Одно из важнейших доказательств их состоит в том, что романисты часто искажают историческую истину, но понимают ли эти люди, что такое историческая истина? Понимают ли они, что в высшем-то значении сего слова она состоит не в верном изложении фактов, а в верном изображении развития человеческого духа в той или другой эпохе? Но кто уловил этот дух? Разве из одних и тех же фактов не выводят различных результатов? Один историк говорит то, другой другое, и между тем они оба подкрепляют свои противоположные мнения одними и теми же фактами. И кто решит, который из них прав? Причина этому очевидна: здесь искусство совпадает с наукою; историк делается художником и художник историком. Какая цель историка? Уловить дух изображаемого им народа или изображаемого им человечества в какую-нибудь эпоху его жизни таким образом, чтобы в его изображении видно было биение этой жизни, чтобы сквозь его рассказ трепетала та живая идея, которую выразил собою народ или человечество в ту или другую эпоху своего бытия. В сем смысле Вальтер Скотт, в своем «Ивангое» и «Карле Безрассудном»{7}, есть историк в полном и высшем значении сего слова, ибо он в сих созданиях своего громадного гения начертал нам живой идеал средних веков. Прочтя эти два романа, вы не будете знать истории средних веков, но будете знать сокровенную жизнь этой эпохи человечества; прочтя их, вы будете в истории и в фактах искать поверки этого поэтического синтеза, и эти факты не будут для вас мертвы. И это очень естественно: между идеалами и действительностию совсем нет такого неизмеримого пространства, какое обыкновенно предполагают; ибо что такое вся вселенная, как не воплощенный идеал, созданный всемогущим художником? Разве вы можете постигнуть ее жизнь одним умом? Ум анализирует жизнь вселенной, ибо не может охватить ее вдруг: искусству предоставлено синтетическое представление ее жизни, ибо цель искусства есть предображать явления жизни. Разве есть предел художественного творчества, разве не может явиться такой художник, который в одном создании выразит целую и полную идею мировой жизни, а не одни ее частные явления? Говорят еще, что не должно мешать вымыслов с истиною? Но ведь – где жизнь, там и поззия{8} – это аксиома; а где же, как не в человечестве, наиболее проявляется всеобщая жизнь вселенной, и, следовательно, что же, как не человечество, наиболее должно служить предметом поэтического вдохновения, и потому, что же, как не история, должно доставлять, если можно так выразиться, материалы для художественных созданий?
Теперь очень понятно, в чем состоит главное заблуждение цеховых художников и в чем заключается главный недостаток их заказных изделий. Они хотят знакомить нас с историческими подробностями какой-нибудь эпохи и неуклюже вставляют, или, лучше сказать, втискивают их в пошлую и обветшалую раму любви двух лиц. Жалкие слепцы, они видят в истории человечества события и подробности, нравы и обычаи, а не трепетание вечной идеи жизни человечества, и думают, что они все сделали, если вывели на сцену какое-нибудь историческое лицо, вложили ему в уста несколько фраз, сказанных им при жизни, если сумели избежать анахронизмов и довольно верно с подлинным намалевать несколько картин тогдашнего быта и в примечаниях или выносках подтвердить ссылками на разных авторов[1] достоверность своих изображений. И потому у них вымысел с истиною сливается, точно так же, как масло с водою, и потому их произведение есть анатомический препарат, а не живое создание. Бедняжки, они не знают того, что и сама история, при всей верности представляемых ею фактов, поверенных и очищенных критикою, жестоко грешит против исторической истины, если не выражает идеи жизни народа; они не знают, что Вальтер Скотт потому так увлекателен, истинен и верен в отношении к исторической истине, что выражает дух избранной им эпохи и не гоняется за подробностями, и что посему ему никакого труда не стоило соблюдать мелочную верность в подробностях.