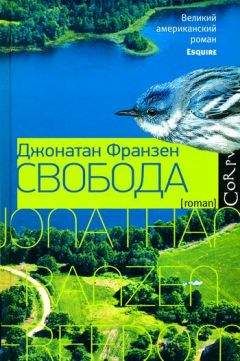Отдавая дань уважения обширным и проверенным на собственном опыте познаниям Леонарда о том, что значит быть скучным, хочу, однако, заметить: поскольку быть скучным — это недостаток, по определению получается, что человек, достигший совершенства, скучным быть не может.
Это хорошая шутка; но в каком-то смысле такая логика душит. «Всё и еще больше» — вот на какой лад она настраивает, в очередной раз приводя на память название одного из произведений Дэвида; всё и еще больше — вот чего он хотел от своих книг и для своих книг. И раньше — в «Бесконечной шутке» — это у него получилось. Но пытаться добавить что-то еще к тому, что уже и есть всё, значит рисковать остаться ни с чем. Рисковать наскучить самому себе.
Любопытно, что Робинзону Крузо за все двадцать восемь лет жизни на его Острове Отчаяния ни разу не делается скучно. Да, поначалу он сетует на тяжесть и однообразие своих трудов, позднее признаёт, что очень устал, бродя по острову в поисках дикарей, жалуется, что нет трубок и поэтому он не может курить растущий на острове табак, называет первый год с Пятницей своим самым счастливым годом на острове. Но современная потребность в стимуляторах совершенно ему чужда. (Возможно, самая поразительная деталь романа — то, что Робинзон растянул три бочонка рома на четверть века; я выпил бы весь ром за месяц, просто чтобы закрыть вопрос.) Не переставая мечтать о спасении, он тем не менее вскоре начинает получать «тайное удовольствие» от сознания своего абсолютного владычества над островом:
…мир казался мне теперь далеким и чуждым. Он не возбуждал во мне никаких надежд, никаких желаний. Словом, мне нечего было делать там, и я был разлучен с ним, по-видимому, навсегда. Я смотрел на него такими глазами, какими, вероятно, мы смотрим на него с того света…[10]
Робинзону удается выжить в одиночестве, потому что ему везет; он мирится со своим положением, ибо он человек обыкновенный и остров, на который он попал, реален. Дэвиду, необыкновенному человеку, чей остров был виртуален, под конец было нечем жить, кроме его собственного интересного «я», а с сотворением виртуального мира из самого себя проблема примерно та же, что с проектированием своей личности на кибермир: виртуальных пространств, где можно искать стимуляции, бесконечно много, но сама их бесчисленность — вечная стимуляция без удовлетворения — лишает свободы. «Всё и еще больше» — такое притязание свойственно и интернету.
От наводящего страх места, где я под дождем повернул обратно, до Ла-Кучары не было и мили, но путь занял два часа. Дождь был теперь не только горизонтальным, но еще и сильным, ветер дул так, что приходилось нагибаться ему навстречу. GPS-навигатор сигнализировал, что батарейка почти разряжена, но мне все равно надо было периодически его включать: видимость была такая низкая, что иначе я сбивался с пути. Даже когда прибор показал, что до рефухио сто пятьдесят футов, я еще не видел очертаний убежища.
Забросив в рефухио промокший рюкзак, я поспешил к палатке и увидел, что она полна воды. Не без труда вытащив из нее матрас, я отнес его обратно в рефухио, потом вернулся к палатке, разобрал каркас, вылил воду, сграбастал все в охапку, стараясь сохранить вещи хотя бы полусухими, и опять кинулся вверх по склону сквозь горизонтальный дождь. Рефухио превратилось в зону бедствия, заваленную мокрыми вещами. Два часа я занимался сушкой, потом целый час безрезультатно обшаривал каменистую площадку, ища важную часть палаточного каркаса, которую потерял во время бешеного броска к рефухио. И вдруг за считаные минуты дождь перестал, облака рассеялись — и я увидел, что нахожусь в самом красивом месте из всех, где бывал.
День близился к концу, над невероятной синевой океана дул ветер с берега, и время пришло.
Ла-Кучара не столько покоилась на суше, сколько висела в воздушной вышине. Возникло ощущение почти-бесконечности: солнце извлекало из склонов гор больше оттенков зеленого и желтого, чем мог, по моим прежним понятиям, иметь в себе видимый спектр, это была слепящая почти-бесконечность красок, а небо казалось таким огромным, что я не удивился бы, если б увидел на его восточном краю полоску материкового берега. Последние белые клочья облаков, стремительно слетев с вершины, промчались мимо меня и исчезли. Ветер дул с берега, и я заплакал, потому что время пришло, а я не подготовился: ухитрился забыть. Я пошел в рефухио, достал коробочку с прахом Дэвида — «книжечку», так он шутливо называл свою не столь уж и маленькую книгу о бесконечности в математике — и вернулся с ней на площадку, подгоняемый ветром.
В каждый миг я занимался много чем сразу. Даже когда плакал, я в то же время оглядывал землю в поисках потерянной детали палатки, и вынимал из кармана фотоаппарат, чтобы попытаться запечатлеть неземную красоту освещения и пейзажа, и клял себя, что делаю это, когда мне следовало бы только оплакивать друга, и говорил себе, что даже лучше, что мне не удалось увидеть райадито в свой, безусловно, единственный приезд на остров, что самое время смириться с конечностью и неполнотой, с тем, что некоторые птицы так и останутся неувиденными, и понять, что способность с этим смириться — дар, которым я, в отличие от моего любимого умершего друга, наделен.
Пара почти одинаковых больших валунов у оконечности продолговатой площадки образовывала своего рода алтарь. Дэвид решил оставить тех, кто его любил, и отдать себя большому миру романа и его читателей, и я был готов пожелать ему добра на этом пути. Я открыл коробочку с прахом и бросил содержимое в объятия ветра. Несколько серых костяных частичек упало на склон подо мной, но пылевидный пепел был подхвачен ветром и исчез в синеве небосвода, в океанской дали. Я повернулся и двинулся в гору к рефухио, где мне предстояло ночевать, потому что палатка пришла в негодность. Я чувствовал, что со злостью покончено, осталась только утрата, и чувствовал, что островов с меня тоже хватит.
На катере, когда я возвращался на Робинзон-Крузо, со мной плыли тысяча двести омаров, две освежеванные козы и старый ловец омаров, крикнувший мне, после того как якорь был поднят, что море очень неспокойное. Да, согласился я, малость качает. «No poco! — строго возразил он. — Mucho!»[11] Люди из команды катера мотались вокруг окровавленных козьих туш, и я понял, что мы берем курс не прямо на Робинзон-Крузо, а на сорок пять градусов южнее, чтобы нас не опрокинуло волнами. Я проковылял вниз, в крохотный вонючий кубрик в носовой части, бросился на койку, и, после того как я пролежал там час или два, вцепившись в края койки, чтобы не взлететь на воздух, пытаясь думать хоть о чем-нибудь, о чем угодно, лишь бы не о морской болезни, и слушая, как вода шлепает и лупит по днищу, меня вырвало в пластиковый пакет (позже выяснилось, что от вспотевшей кожи у меня за ухом отклеился пластырь против укачивания). Десять часов спустя, когда я отважился снова выйти на палубу, я ожидал, что уже видна будет гавань, но капитан до этого так много лавировал, что плыть оставалось еще пять часов. О том, чтобы опять идти ложиться на койку, я и думать не мог, и меня по-прежнему тошнило, так что вид морских птиц удовольствия не доставлял, поэтому я все пять часов простоял, ничего не делая — разве только размышляя, как изменить дату обратного перелета, который я на случай задержки забронировал на следующую неделю, и вернуться домой пораньше.
Я давно не чувствовал такой тоски по дому, — может быть, с тех пор как последний раз ходил в поход в одиночку. Через три дня калифорнийка, с которой я живу, должна была поехать к нашим друзьям смотреть вместе «Супер Боул»,[12] и едва я подумал, что мог бы сидеть рядом с ней на диване, потягивать мартини и болеть за Аарона Роджерса, квотербека команды «Грин-Бей пэкерз», блиставшего в прошлом в команде Калифорнийского университета в Беркли, как мне отчаянно захотелось покинуть острова немедленно. Птиц двух эндемичных видов, обитающих на острове Робинзон-Крузо, я уже видел до отплытия на Мас-Афуэру, и перспектива провести там неделю без всяких шансов увидеть что-нибудь новое выглядела удушающе скучной — выглядела насильственным лишением того самого, от чего я еще недавно хотел бежать без оглядки, но что теперь оценил как источник удовольствия.
Вернувшись на Робинзон-Крузо, я попросил Рамона, хозяина моей гостиницы, узнать, нельзя ли мне вылететь в Сантьяго уже завтра. На оба рейса, как оказалось, мест не было, но, пока я обедал, в гостиницу вошла местный агент одной из авиакомпаний, и Рамон стал уговаривать ее пустить меня на третий рейс — на чисто грузовой. Она отказалась. Но ведь есть место второго пилота, нельзя ли туда? — спросил Рамон. Нет, ответила агент, место второго пилота тоже будет занято коробками с омарами.