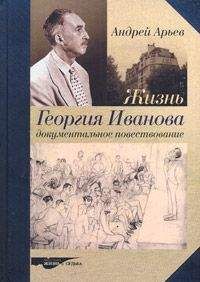Все будущие «мировые рекорды одиночества» Георгия Иванова зарождаются и подготавливаются очень рано. При всем своем «акмеизме» Георгий Иванов вряд ли следовал «закону тождества», выведенного Мандельштамом как этого акмеизма лозунг: «А=А». Разделяя мнение Крейда, что Георгий Иванов никогда «последовательным символистом» не был, уточним: также никогда он не был и «последовательным акмеистом», искал «реальнейшее» — хотя бы в самой поэзии.
Следуя Мандельштаму, Крейд различие между символизмом и акмеизмом сводит к замечательно простой формуле: «Логика построения акмеистического образа: А есть А, то есть упоминаемый объект не является представителем другого объекта. Логика образа у символистов может быть передана формулой А есть Б, ибо А важно не само по себе, но только потому, что оно представляет, выражает, обозначает, символизирует иное (Б)».
Не все гениальное так уж просто. Формула «А=А» с таким же успехом покрывает любые неакмеистические стихи, написанные как до символистских прозрений, так и после них. Для акмеизма это все же не формула, а «прекрасная поэтическая тема», как тут же уточнил Мандельштам. То есть она применима преимущественно для «ос гранения» символистских мотивов. Пригодна для определения сути лирического сюжета в поэзии «серебряного века» только другая: «А=Б». Ибо цель поэзии — таинственна (акмеистка Ахматова).
Мандельштам пытался противопоставить «реализму» (с которым — в религиозно-философском понимании этого термина — отождествлял себя символизм), манифестирующему «реальнейшее» целью творчества, «русский номинализм, то есть представление о реальности слова как такового». Но и для Мандельштама слово повернуто к «реальнейшему», к «универсальному», изначально несет в себе «символ». «Номинализма» не существует без «реализма», как не может быть для человека нового опыта вне априорно данного. Истинно в мандельштамовском утверждении то, что с эстетической точки зрения русская поэзия «серебряного века» и на самом деле двигалась в сторону «номинализма». И в такой же степени привязана к универсализму — в каждом конкретном случае, когда обозрению доступен духовный путь того или иного автора в целом. Тем более если обнаруживается нарастающая зависимость его творчества от христианского символа веры.
Без «реальнейшего» вся эта поэзия превращается в прах, в «убещур», в «глокую куздру». Или того хуже — в сор истории, в заздравно-заупокойную словесную труху.
Мандельштам в конце концов свел акмеистический бунт к обличению «лжесимволизма», а не символизма «как такового». Спор, оказывается, шел всего лишь о «новом вкусе». О малости, как оказывается, более существенной, чем заповеди литературных школ.
То же самое утверждал и олицетворял собой Георгий Иванов.
«Гиератический, то есть священный, характер поэзии» Мандельштамом не только не подвергался сомнению, но еще и обусловливался «убежденностью, что человек тверже всего остального в мире». Если это не просто запальчиво красивые слова, то они содержат в себе довод исключительно в пользу «реальнейшего»: «тверже всего» человек создан по образу и подобию Божию.
Неудивительно, что и символизм в итоге оценен Мандельштамом как «лоно всей новой русской поэзии». Внутри символизма и порожден акмеистический «мир цветущего разнообразия». Слова эти, Мандельштамом в кавычки не забранные, заимствованы, как уже было сказано, у Константина Леонтьева, «М» тут наглядно отождествляется с «Л». Простецкое «А» оказалось отражением скрытого «Б». «Номинальное» обнаружило свою «реальность», потеряв «единичность».
Акмеизм «как таковой» вообще малосодержателен. Содержателен постсимволизм, его художественная практика.
Также и у Георгия Иванова «А» равно «А», равно «А» и еще раз «А» — до тех пор, пока мы не увидим, что речь идет о «Б». Это чудо происходит далеко не всегда. Но в том же стихотворении «Горлица пела, а я не слушал…» «А» «символизирует и н о е».
У Георгия Иванова не только «А» не равно «А», но и «Я» не равно «Я». Поэт с первых литературных шагов живет в раздвоенном романтическом мире, и из всей его акмеистической предметной ясности глядит умышленное лицо, расположившееся в умышленной местности. Его жанром всегда был «портрет без сходства». Лишь в эмиграции он удался вполне.
Довольно смешно представить себе, что описанное в стихотворении «Горлица пела, а я не слушал…» блаженное анахоретство героя касается интимных обстоятельств пребывания поэта в столице. Ведь кто такой Георгий Иванов периода «Горницы» и расцвета акмеизма? Под аккомпанемент каких труб, на каких островах протекала его «неспешная» жизнь? Разве что на Васильевском, в коридорной толчее университета, куда поэт хаживал за компанию с Георгием Адамовичем на романо-германское отделение. Поболтав со студентами, день Георгий Иванов проводил в редакциях «Аполлона» или «Гиперборея», вечером заглядывал к Кузмину, к Юркуну, к Скалдину, к Палладе Богдановой-Вельской… Ночью отправлялся в «Бродячую собаку» После выходного мог укатить за город, но не дальше Царскою Села или Павловска, на понедельничные журфиксы к Адамовичам, где, видимо, и познакомился с подругой Татьяны Адамович Габриэль Тернизьен, вскоре ставшей его женой… Но о стиле этой жизни нужно говорить не прозой, а стихами. Лучше всего — взятыми самим Георгием Ивановым у Адамовича на эпиграф к «Петербургским зимам» (в первом издании 1928 г.):
Без отдыха дни и недели,
Недели и дни без труда.
На синее[10] небо глядели,
Влюблялись… И то не всегда.
И только. Но брезжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то легкое пламя.
Которому имени нет.
Нужно быть законченным педантом, чтобы попытаться увидеть в этой озаренной пьесе рефлексию какого-нибудь «цеховика» (вместе с Георгием Ивановым Адамович возглавлял 2-й «Цех поэтов», 1916—1917 гг.), а не запечатленное настроение целой литературной эпохи. И в чисто литературном плане ближайший друг Георгия Иванова 1910-х годов (они познакомились 13 октября 1913 года в Тенишевском училище на лекции Корнея Чуковского о футуризме) отзывается не на «цеховую» ноту, но на блоковскую, на его «Поэтов».
Друзья-«цеховики» сознательно или бессознательно моделировали стиль поведения не по гумилевскому уставу, а по блоковской стихии, «разнежась, мечтали о веке златом».
Георгий Адамович, менее Георгия Иванова заметный в литературной жизни Петербурга — Петрограда, реже писавший стихи, как лирик был все-таки в ту пору глубже своего младшего друга. И не столь ориентирован на литературный успех. Он и тронул первым ноту, ставшую специфически ивановской в эмиграции, но самим Адамовичем не разработанную и упущенную. Уже первое стихотворение первого сборника Адамовича «Облака» (1916) «Вот так всегда, — скучаю и смотрю…» можно назвать протоивановским. А в таких стихах, как «Холодно. Низкие кручи…» или «Как холодно в поле, как голо…», он уже был Георгием Ивановым до Георгия Иванова. В эмиграции все переменилось: его литературная известность превзошла ивановскую, так зато лирический дар оскудел.
Для Георгия Иванова времена «Цеха поэтов» и «Аполлона» были самыми беспечальными, никаким одиночеством не грозящими. Тогда, в отличие от более поздних лет, он был мил всем. Игорь Северянин и не подумал рассердиться на него за измену эгофутуризму, Гумилев ему покровительствовал безусловно. Даже Ахматова, беспощадный его поздний критик, посвятила ему стихи. Как бы эти поэты ни относились к тогдашним ивановским прилежным опытам, Мандельштам адресует ему великолепное «Царское Село», а о самом «Юрочке» позже говорит: «Я его совсем не за его стихи ценил, нет. За него самого». «Мелкий и злобный ум»[11] ему приписали уже задним числом. Что нехорошо. «В Петербурге и он всех, и его все любили», — утверждала Одоевцева в частном письме к В. Ф. Маркову.
В «Горнице» Георгий Иванов все еще пребывает в «плаще ученика». Стихи пишутся от имени Пьеро, не ведающего, какое за стенами театра столетие, презирающего любое, ибо мир во все века — «балаганчик». Язык подсказывает, что балаганчик этот — русский, раз помещается в горнице. По развешанным на ее стенах гравюрам можно многое вообразить о России, о Петербурге, о дальних скитах. Да и за подробностями далеко ходить не нужно — они в расставленных тут же книжных шкафах.
Что делать в такой горнице, чем жить?
Я кривляюсь вечером на эстраде,
Пьеро-двойник,
А после, ночью, в растрепанной тетради
Веду дневник.[12]
Изобразительность Георгия Иванова более театральна, декоративна, чем житейски предметна, как того требовала акмеистическая теория, и лишь в малой степени задана ею. И в процитированном стихотворении поэт опять хочет быть современником Блока, а не своих друзей по «Цеху», на свой лад перелагает его стихотворение «Я был весь в пестрых лоскутьях…».