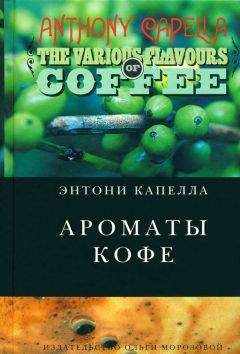Александр Кондратьев (два сборника стихов)[184] говорит, будто верит в мифы, но мы и здесь видим только миф. Слова своих стихов Кондратьев любит точно, — притом особые, козлоногие, сатировские слова, а то так и вообще экзотические.
Например, Аль-Уцца, — кто его знает, это слово, откуда оно и что, собственно, означает, но экзотичность его обросла красивой строфою, и слово стало приемлемым и даже милым
В час, когда будет кротко Аль-Уцца мерцать,
Приходи, мой возлюбленный брат.
Две звезды синеватых — богини печать
На щеках моих смуглых горят.[185]
(Сб. «Черная Венера», с. 39)
Юрий Верховский (сборник «Разные стихотворения»)[186] упрямо ищет согласовать свой лиризм, в котором чувствуется что-то изящно простое, приятно спокойное, с подбором изысканных и несколько тревожных даже ассонансов:
Слышу шорох, шумы, шелест
Вечерами темными;
Ах, зачем брожу я холост
С грезами безумными!
Вон, спеша, летит ворона
Крыльями повеяла;
Вон вдали кричит сирена
Душу мне измаяла.[187]
(«Разные стихотворения», с. 23)
Николай Гумилев (печатается третий сборник стихов),[188] кажется, чувствует краски более, чем очертания, и сильнее любит изящное, чем музыкально-прекрасное. Очень много работает над материалом для стихов и иногда достигает точности почти французской. Ритмы его изысканно тревожны.
Интересно написанное им недавно стихотворение «Лесной пожар» («Остров», № 1, с. 8 сл.). Что это — жизнь или мираж?
Резкий грохот, тяжкий топот,
Вой, мычанье, стон и рев,
И зловеще-тихий ропот
Закипающих ручьев.
Вот несется слон-пустынник,
Лев стремительно бежит,
Обезьяна держит финик
И пронзительно визжит,
С вепрем стиснутый бок о бок
Легкий волк, душа ловитв,
Зубы белы, взор не робок
Только время не для битв.[189]
Лиризм И. Гумилева — экзотическая тоска по красочно причудливым вырезам далекого юга. Он любит все изысканное и странное, но верный вкус делает его строгим в подборе декораций.[190]
Граф Алексей Н. Толстой[191] — молодой сказочник, стилизован до скобки волос и говорка. Сборника стихов еще нет.[192] Но многие слышали его прелестную Хлою-хвою.[193] Ищет, думает; искусство слова любит своей широкой душой. Но лирик он стыдливый и скупо выдает пьесы с византийской позолотой заставок
Утром росы не хватило,
Стонет утроба земная.
Сверху то высь затомила
Матушка степь голубая,
Бык на цепи золотой
В небе высоко ревет…
Вон и корова плывет,
Бык увидал, огневой,
Вздыбился, пал…[194]
(«Остров», № 1, с. 37)
Петр Потемкин[195] — поэт нового Петербурга. «Смешная любовь» преинтересная книга. Сентиментален, почти слезлив, иногда несуразен. Во всяком случае, искренний — не знаю как человек, но искатель искренний. Страшно мне как-то за Петра Потемкина.
Я пришел к моей царице кукле,
сквозь стекло целовал
ее белые букли
и лица восковой овал.
Но, пока целовал я, в окошке
любимая мной
повернулась на тоненькой ножке
ко мне спиной.
(«Смешная любовь», с. 36)
Владимир Пяст[196] надменно элегичен. Над философской книгой, однако, по-видимому, способен умиляться, что, хотя, может быть, и мешает ему быть философом, но придает красивый оттенок его поэзии.
Над ритмом работает серьезно, по-брюсовски, и помогай ему бог! Мне понравилось в «Ограде» (единственном покуда сборнике его, кажется) Элегия:
Слышишь ты стон замирающий,
Чей это стон?
Мир, безысходно страдающий,
Мой — и ко мне припадающий
Серый, туманный,
Странный
Небосклон.
Тянется мерзлая ручка:
«Барин, подайте копеечку!»
Девочка глянет в глаза.
На кацавеечку,
Рваным платком перетянутую,
Капнет слеза.
Талая тучка,
Робкая, будто обманутая,
Врезалась в странно-туманные,
Нет, не обманные!
Небеса.
Где же вы, прежние,
Несказанные,
Голоса?
Оттого день за днем безнадежнее?
(«Ограда». 1909, с. 71 сл.)
Фет повлиял или Верлен? Нет, что-то еще. Не знаю, но интересно. Подождем.
Рельефнее высказался Сергей Соловьев (два сборника: «Цветы и ладан» и «Crurifragium»).[197] Лиризм его сладостен, прян и кудреват, как дым ароматных смол, но хотелось бы туда и каплю терпкости, зацепу какую-нибудь, хотя бы шершавость. Валерий Брюсов — и тот нет-нет да и обломает гвоздик на одном из своих лирических валов.
Положим, лексические причуды у Сергея Соловьева вас задерживают иногда. Но ведь это совсем не то, что нам надо. Вот начало его прелестной «Primavera». Увы! думал ли кваттрочентист, что его когда-нибудь будут так любить на Парнасе?
Улыбнулась и проснулась,
Полня звуками леса.
За плечами развернулась
Бледно-желтая коса.
Взор, как небо, — беспределен,
Глубина его пуста,
Переливчат, влажен, зелен…
Мягко чувственны уста.
Где с фиалками шептались
Незабудки и цвела
Маргаритка, — там сплетались
Дымно-тонкие тела…[198]
и т. д. (Сев. цв. асс., с. 45)
Хорошо дышится в этих стихах. Воздуху много. Сплошное А мужских рифм действует как-то удивительно ритмично.
В самое последнее время появилась еще книга стихов Валериана Бородаевского (изд. «Ор»). Предисловие к ней написал Вячеслав Иванов.[199]
Пьесы разнообразны, но, кажется, главным образом, благодаря разнообразию влияний:
1) Ко мне в жемчужнице, на черных лебедях,
Плывешь, любимая, и простираешь длани,
С глазами нежной и безумной лани
И розой в смольных волосах.[200]
(с. 26)
(Чистый Парнас — Валерий Брюсов, отдыхающий среди «поисков».)
2) Я пронжу, пронжу иглой
Сердце куклы восковой.
Жарко, сердце, загорись,
Разорвись!
. . . . . . .
Сердце, сердце, разожгись,
Разорвись!
(с. 30 сл.)
(ср. Вяч. Иванов. «Мэнада»).
Сам по себе новый автор более всего впечатляется мраком — у него пещерная муза. Вот отрывок из пьесы, где стих достигает у него настоящей крепости, а речь — завидной простоты:
Плесень под сводом, осклизлые стены.
И рудокоп, ночью и днем,
С чахлым огнем,
Вянущим, тающим, — в долгие смены
Медленным мерно стучит молотком.
Кони понурые вдоль галереи
Гулко катят груды камней.
Окрики — гей!
Плавно дрожат седловатые шеи,
Вислые губы темничных коней.[201]
(с. 41)
Наконец останавливаюсь в некотором недоумении. Вот сборник Владислава Ходасевича «Молодость».[202] Стихи еще 1907 г., а я до сих пор не пойму: Андрей ли это Белый, только без очарования его зацепок, или наш, из «комнаты».
Верлен, во всяком случае, проработан хорошо. Славные стихи и степью не пахнут. Бог с ними, с этими емшанами![203]
Время легкий бисер нижет:
Час за часом, день ко дню…
Не с тобой ли сын мой прижит?
Не тебя ли хороню?
Время жалоб не услышит!
Руки вскину к синеве,
А уже рисунок вышит
На исколотой канве.[204]
Я досказал обо всех, кого только успел сколько-нибудь изучить. Многие пропущены, конечно. Иных я обошел сознательно. Так, я ничего не сказал о Мережковском,[205] С. А. Андреевском,[206] Льдове,[207] Фофанове,[208] Влад. Соловьеве, Минском,[209] о Случевском последнего периода… Но им здесь и не место, в этом очерке, так как они давно выяснились. Когда буду говорить о новом искусстве, скажу и о них — должен буду сказать.