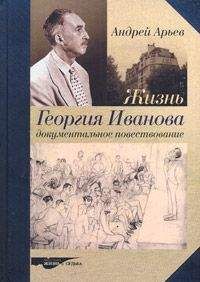Вопрос, какими заботами вызван пафос его статей о «военных стихах» в «Аполлоне» 1914—1915 годов, неожиданно уводит от боевой проблематики в иные области. Бессознательно поэт обнаруживает: больше, чем завоевания Константинополя, его душа чает эстетики опрощения. В глубине души он никакой не «модернист», а «пассеист», в чем, быть может, и сам себе прямо не признается. Хотя именно «модернизм» сделал его — в плане эстетического выражения — поэтом.
В первом же абзаце своей первой статьи о «военных стихах», напечатанной в «Аполлоне», проговорено, в чем счастье новой стихотворной темы: «…военные стихи наших дней — не только простой отклик на события, всех взволновавшие. Они несут в себе признаки, пусть слабые, но очевидные, подлинного перерождения нашего одряхлевшего модернизма».
Модернизм в 1914 году «одряхлел» ничуть не меньше любых других эстетических направлений. И в статьях своих Георгий Иванов отстаивает именно его плоды, противопоставляя их продукции «всех этих Рославлевых и Ладыженских», «врагов модернизма»… Даром что похвалы Георгия Иванова людям своего цеха не менее забавны, чем сами приводимые образчики.
Например, о том же Кузмине: «Ряд очаровательных военных стихотворений написал М. Кузмин…» Не знаем, что еще более нелепого можно придумать о военных стихах, чем назвать их «очаровательными»? Не менее забавна и сама эта поставленная автором в пример «очаровательная» воинственность Кузмина: «Метнув в мадонну дерзкий дротик, / Не вскрикнуть, не затрепетать …» и т. п.
В одном из любимых Георгием Ивановым русском романе, в «Тысяче душ» А. Ф. Писемского, сказано: «В Петербурге у человека, в каком бы положении он ни был, развивается шестое чувство: жажда денег».
Это чувство Георгий Иванов нисколько не скрывал, наоборот, руководствовался им в жизненной практике. «Деньги — даже ничтожные — мне всегда „срочно требуются"», — спешил он уведомить корреспондента, не успев с ним толком познакомиться.
Бесспорно, денег на «изящную жизнь» всегда недостает. Но вряд ли прямая нужда заставляла Георгия Иванова даже в письмах к Блоку сплошь ограничиваться денежными просьбами, как будто о большем ему говорить с лучшим поэтом эпохи недосуг. Выставляемый напоказ меркантилизм походил, конечно, на юношескую браваду, да и был ею, но все же имел и привкус развивающегося с годами брезгливого негативизма, старательно обесценивавшего «гуманистическую мораль».
Сологуб, рассказывают, делил свои строчки на те, что стоят рубль, и те, что идут по полтиннику. Подобным профессиональным подходом к искусству Георгий Иванов щеголял с энтузиазмом. Если не преувеличивал позже, то зарабатывал не хуже Сологуба: «…когда мне было двадцать лет, мне всюду платили не ниже рубля за строчку…»
Вот за «лукоморские» стихи и платили. Как раз — двадцатилетнему.
Если издать отдельно газетно-журнальные публикации ивановских стихов за три-четыре года «лукоморской» ориентации, то составится книга, по объему равная половине всей его лирической продукции русского периода жизни. Книга совсем другого автора, нежели тот, что издал в ту же пору «Горницу» и «Вереск». Вместо петербургского мастера Георгия Иванова на сцену явится «разлетевшийся с колокольни» ряженый мастеровой Иванов:
Вот он, русский простор необъятный —
Все овсы да ржаные поля!
(«Годовщина войны»)
С декадентским произволом связана стилизация всей жизни художника, тем более впечатляющая у человека с такой генеалогией, как у Георгия Иванова. То, что может показаться биографическим элементом в его текстах, всегда носит несколько романический характер. Чем необременительнее была его связь с царем и отечеством, тем радужнее и лиричнее «любовь к отеческим гробам» (элегантный способ пребывать на земле патриотом, ничего вокруг не благословляя). И тем трепетнее он жаждал открыть в себе то «шестое чувство», что запечатлевается, по Николаю Гумилеву, в «бессмертных стихах», наперекор удостоверенному наблюдателем-реалистом «шестому чувству» приневских существователей.
Этот Георгий Иванов весьма отличен от «лукоморского» Иванова.
Последний, теперь мало кому известный, Иванов от острого критического взгляда не ускользнул тоже. Его саркастически процитировал в «Даре» Набоков, а современный поэт Манук Жажоян о его стихах, «ради справедливости» переча самому Блоку, говорит: они «обделены и умом, и талантом, и вкусом».
«От легкой жизни мы сошли с ума», — написал Мандельштам в стихах, увенчанных жутковато сочувственным образом Георгия Иванова:
Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.
Примечательные черты лица Георгия Иванова тех лет здесь переданы: отчетливая ленка губ (их во времена богемной юности поэт еще и подкрашивал), челка, придуманная специально для него художником Сергеем Судейкиным.
В эстетизированном карнавале «серебряною пека» человеческий образ двоится. Виктор Шкловский видит лицо поэта в «Бродячей собаке» таким: «Здесь был Георгий Иванов, вероятно красивый, гладкий, как будто майоликовый…»
Отметим это «вероятно»: за стилизованной наружностью человек лишь угадывается, и веселье его — напрасно.
Дуализм тех авторов «серебряного века», у которых он коренится в опыте фрагментарной легкой жизни, не менее драматичен, чем у тех, кто переживал его в кабинетной тиши как унаследованный из священной истории или античной философии (те же Шестов и Вячеслав Иванов).
Поэтому отойдем в сторону от грандиозных заветов обратившихся от марксизма к идеализму философов, от дионисийства Вячеслава Иванова, от «нового религиозного сознания» Мережковского: тема влечет к «праздной жизни пустякам», к «шабли во льду», к «Бродячей собаке», к «пивной на Гороховой» («Напиваюсь под граммофон в пивной на Гороховой»[14]). В разговоре о Георгии Иванове нас интересуют блоковские двойники и отражения их в земной, «слишком человеческой» ипостаси. Такие, например, как персонаж «Ночной фиалки», века просидевший над пивной кружкой.
Легкая жизнь для людей «серебряного века» — это, конечно, жизнь земная. В возвращении к земным ориентирам, весьма слабо тронутым защитной почвеннической окраской, исследователи видят существо эволюции поэзии 1910-х годов. Л. Я. Гинзбург пишет: «Вместо мистики и религиозной философии все большее значение приобретают моменты чисто эстетические, стилизация, экзотика, — тем самым возрождаются отчасти установки раннего Брюсова. Для молодой литературы 10-х годов характерно стремление вернуться к земному источнику поэтических ценностей».
Нужно подчеркнуть: возвращались акмеисты к земле — не пахарями, не толстовцами, а «экзотистами», как они сами себя именовали некоторое время до объединения в литературную группу. Предпочтительнее для них «ознаменование вещей», а не их «преобразование». Надежд на «стихийно-творческую силу народной варварской души», по выражению Вячеслава Иванова, на эту закультурную иллюзию символистов, они не имели В большей степени, чем символизм, акмеизм был воплощенной культурой. По крайней мере, ему ведомо было, что культура — это отбор, а не перебор. Символистской риторикой насчет того, что в результате встречи «нашего народа» и «нашего художника» «страна покроется орхестрами и фимелами, где будет плясать хоровод, где в действе трагедии или комедии, народного дифирамба или народной мистерии воскреснет истинное мифотворчество», как пророчил Вячеслав Иванов, акмеизм не соблазнился.
Земля для литературного поколения Георгия Иванова — явление эстетическое. И даже — экзотическое. Новый, выплывший из «безначального тумана» фрагмент, остров Цитеры. Земля тут соблазн, а не твердь. Соблазн преодоления несказанных, неизреченных целей, отказ от мучительной рефлексии ввиду наглядной очевидности конца. С. Я. Франк замечательно говорил об этой прикровенной тенденции к реабилитации плоти, называя ее «натуралистическим гуманизмом»: «В нем гуманистически возвышается и санкционируется человек, уже не как „разумное" и не как духовное существо, а как существо природное, плотское».
Именно в этом направлении теоретизировал Гумилев в статье-манифесте 1913 года: «…мы немного лесные звери и, во всяком случае, не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению».
Конечно, любые эстетические манифесты уводят далеко в сторону от конкретных художественных свершений их авторов, от их индивидуальной практики. Вот и Гумилев в стихотворении «Разговор», посвященном Георгию Иванову, похож скорее на средневекового мистика, чем на «лесного зверя»: