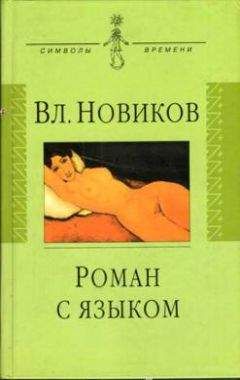Ознакомительная версия.
Читая этот интертекстуальный пассаж (так и хочется сказать: пассаж «достоевский и бесноватый»), я не могу отделаться от недоумения: ни разу не видел, чтобы кто-нибудь вывешивал кандидатский, да хоть и докторский диплом на стену — он и формы такой, что для помещения в рамку не годится. Нет, подобную картинку можно вообразить, только глядя на дипломированного специалиста снизу вверх. Но существеннее другое противоречие: почему это вдруг изучать обэриутов — значит использовать их как «пушечное мясо»? Готовить и комментировать тексты, собирать факты — о Хармсе ли, о Зощенко, об Ахматовой — это значит беречь культурные ценности от забвения и тления, от превращения в пыль. Зачем, чтобы стилистически снизить образ одного конкретного филолога, всю филологию объявлять живодерством?
Нет, филология, конечно, все стерпит, да еще и изучит, тщательно прокомментирует все уничтожающие высказывания о себе самой — тут важен вопрос об эстетической функции подобных инвектив. И Каверин, и Битов, и Трифонов немало иронизируют по адресу литературоведения как такового. В их произведениях присутствует своеобразное тройственное сравнение «Литература — Жизнь — Филология», и, хотя в этой триаде филологии выпадает лишь третье место, она остается необходимой точкой отсчета, участвует в создании художественного напряжения внутри смыслового «треугольника». У Наймана, как мне кажется, эта сложная иерархия заменена простой бинарной оппозицией: «наша компания — не наша компания».
Автор и герой в романной системе образуют нерасторжимое единство, они раскрываются только в соотношении друг с другом — не вдаюсь в доказательства, Бахтина все читали. Так вот, хотя в паре «Найман — Б. Б.» отношения совсем иные, чем в паре «Генис — Довлатов», я чувствую в обоих случаях недовоплощенность героев — и как следствие «недораскрытость» авторов. Сделав рассказчиком романа «Б. Б. и др.» мифического Александра Германцева, автор получил возможность многократно говорить о себе в третьем лице: так появляется персонаж Найман, и притом довольно положительный. Но романный «образ автора» — это немножко другая субстанция. Когда я читал книгу «Рассказы о Анне Ахматовой», то, помимо ее высокой культурно-информационной насыщенности, постоянно ощущал загадочность и даже таинственность личности автора. Открыв «Б. Б. и др.» и сразу угадав прототипа, я, при всем профессиональном уважении к этому прототипу и даже сочувствии к нему как к жертве литературного эксперимента (не скажу: «как к пушечному мясу», считая эту метафору слишком избитой), я все-таки хотел в первую очередь узнать нечто новое и неожиданное о личности Анатолия Генриховича Наймана. Может быть, я хотел слишком многого…
…После в высшей степени столичного (и питерского, и московского) Наймана трудновато переходить к абсолютно провинциальному роману Михаила Пророкова «БГА». Таким эпитетом я вовсе не хочу обидеть ни саратовский журнал «Волга», где роман публиковался, ни литераторов необъятной России. Речь о провинциализме духовном, носителями которого могут выступать и москвичи, и «гости столицы».
В «БГА» перед нами предстает совсем новое поколение филологов. Для этой молодежи Битов — уже объект исследования, которому один из героев, Амелин, даже готов уделить целую главу в диссертации о традициях Достоевского в русской советской литературе, сетуя, однако, что «Пушкинский дом» «как роман, не как литературный текст — провален, и именно из-за главного героя». «Действительно, есть ощущение какого-то развала… хотя вещь удивительно интересная», — вторит ему другой персонаж, Глигмантозов, заключая, что «время характеров и типов прошло». Что ж, вместо устаревшей системы характеров — перед нами бравая тройка филологов: Амелин — Боровский — Глигмантозов (первые буквы их фамилий и образуют заглавную аббревиатуру). Они непрерывно рефлектируют над хрестоматийными текстами, изъясняются на интертекстуальном наречии, фонтанируя цитатами и реминисценциями уровня «И Волга, и урок — все движется любовью…». Один из них сочиняет авангардный роман, другой — стихи. Впрочем, рифма выглядывает отовсюду: «Не досказав последней фразы, он шумно выпускает газы» — вот типичный образчик явленного здесь остроумия. А изречение «Пусть смертен Вечный жид, но вечен Вечный Зов» автор, видимо, считает настолько эффектным, что не дарит ни одному из персонажей, а просто приводит за подписью «М. Пророков».
Следить за не очень разными судьбами и однообразными амурами трех персонажей-близнецов — работа, требующая адского напряжения. «Развала» здесь, может быть, и нет, но непрерывное расползание текста «БГА» по всем швам — главная закономерность «сюжета и композиции» (этим аспектом озабочен один из героев — жаль, что не сам Пророков). «Читатель — давай переведем с тобой дыхание», «Прости, читатель. Я был груб с тобой», — взывает время от времени автор, полагая, наверное, что «читатель» — это условно-риторический адресат вроде Музы или еще что-нибудь из области мифологии. Между тем читатель — это практическая проблема. И для филологического романа, и для романа вообще. Уж вроде бы профессиональные филологи-то должны…
Но вот беседую я с квалифицированным лингвистом, доктором наук, написавшим замечательную книгу с обилием вкусных примеров из поэзии и прозы. Высказав ему искренние комплименты, осторожненько упрекаю, что нет в книге примеров из литературы новейшей, девяностых годов, а это, к сожалению, снижает… Коллега смиренно признает справедливость критики: «Да, да, но что делать? Я иногда начинаю читать — и тут же бросаю…»
3. Опыты по клонированию писателей
Термин «филологический роман» вполне применим к такому типу сочинений, как беллетристические повествования о писателях. Иногда он даже окажется необходимым для уяснения, что почем. Есть роман Юрия Николаевича Тынянова «Пушкин», а был еще и роман Ивана Алексеевича Новикова «Пушкин в изгнании». Разницу между двумя произведениями можно разъяснять долго, а можно сказать одним словом: роман Тынянова — еще и филологический… Филологизм может присутствовать в вымышленном повествовании, в свою очередь и в строго фактографическом дискурсе порой просвечивает романная концепция, отнюдь не разрушающая суть исследования и даже помогающая отчетливее подать ее читателю. Ю. М. Лотман определил жанр своей книги «Сотворение Карамзина» словами «роман-реконструкция», считая, что это более строгая форма, чем биографический роман тыняновского типа. Между тем сама идея, положенная в основу этого труда: Карамзин «сотворил» сам себя — исключительно беллетристична. Она не может быть ни однозначно подтверждена, ни однозначно опровергнута и навсегда останется выразительной сюжетной метафорой.
Скажу больше: и книга Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» несет в себе сильный романный импульс. Лотман стремился доказать, что Пушкин не только в творчестве, но и в житейской судьбе — победитель, а отнюдь не жертва. Идея красивая, многим из нас близкая, но совершенно недоказуемая логически. Вопрос о том, счастлив или несчастлив был Пушкин, всегда останется антиномически открытым. Не случайно, что, защищая концепцию своей книги в письме к Б. Ф. Егорову, Лотман готов был предпочесть всем академическим трудам пушкинистов стихотворение Булата Окуджавы «Александру Сергеичу хорошо…» и цитировал финальные строки: «Ему было за что умирать / У Черной речки…» Окуджава же, естественно, не претендовал на абстрактнологическую правоту, высказывался явно гиперболически, а в строках: «И даже убит он был / Красивым мужчиной» — нельзя не ощутить трагической иронии. Пафос «сотворения» самого себя, пафос победы над неблагоприятными обстоятельствами Лотман почерпнул прежде всего из своей собственной научной и человеческой судьбы и таким способом «самовыразился» в книгах о Карамзине и Пушкине. Но повредило ли это «романное» начало историко-филологической достоверности? Отнюдь, оно лишь активизирует читательское восприятие реальных фактов, оставляя мыслящему собеседнику простор для собственных соображений.
Мне кажется, у жанра «романа-реконструкции» может еще быть интересное будущее — и в особенности на материале нашего неминуемо становящегося прошлым столетия. Столько писательских судеб, исполненных реального трагизма, нуждающихся в широком взгляде из двадцать первого века, взгляде свободном и от идеологических шор, и от обывательского морализирования! Пока же эта «ниша» заполняется наскоро, по-журналистски изготовленными биографическими книжками, а писатели с филологической жилкой склонны заниматься не реконструкцией, а деконструкцией — развинчиванием реальных фигур и составлением из них фигур мифических. Вспоминается стилистически и филологически тщательная работа Юрия Буйды «Ермо». При первом чтении три года назад увлекал момент мистификации, подкупало то, как это написано. Теперь же, при попытке перечитывания, прежде всего замечаешь, что текст не обладает ни смысловой многозначностью, ни эмоциональным напряжением. Отсутствие опоры на реальность лишило материал сопротивления, сделало его мягким как воск, а героя — муляжной фигурой этакого Набокова-не-Набокова, «писателя вообще». Оно конечно, здесь «вымысла в избытке», но вот нитки «из собственной судьбы» автора (не в смысле эмиграции и Нобелевской премии, а в смысле судьбы духовной) как-то не просматривается. Так если Георгия-Джорджа Ермо невозможно спроецировать ни на одного писателя XX века, в том числе и на самого Юрия Буйду, то никак не уйти от сакраментального блоковского вопроса: «Зачем?»
Ознакомительная версия.