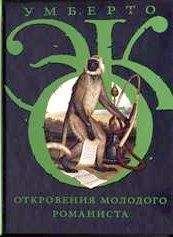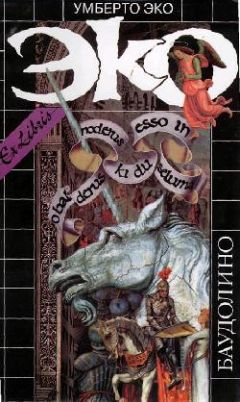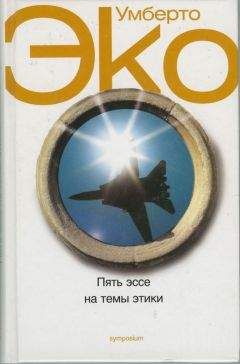Ознакомительная версия.
На данном этапе разговора, хоть я и сказал ранее, что не намерен углубляться в онтологические рассуждения, не могу обойти вниманием один из базовых онтологических вопросов: к какому виду существ могут быть отнесены литературные персонажи и каким образом эти персонажи если не существуют на самом деле, то как минимум считаются существующими?
Несомненно, литературный персонаж — это семиотический объект. То есть ему присущ определенный набор свойств, информация о котором содержится в энциклопедии культуры и который передан посредством данного выражения (слово, изображение или любое другое приспособление). Такой комплекс свойств называется «значением» или «означаемым» данного выражения. Например, слово «собака» передает содержащиеся в нем свойства: животное, млекопитающее из семейства псовых, лающее существо, лучший друг человека — и еще массу характеристик, упомянутых в общедоступной энциклопедии человеческого знания. Эти свойства могут, в свою очередь, быть интерпретированы посредством других выражений; цепочки таких взаимосвязанных интерпретаций формируют совокупность знаний о данном термине, имеющуюся в обществе и хранящуюся в коллективном сознании.
Известно много разновидностей семиотических объектов. Некоторые из них представляют классы ФСО (например, класс «нерукотворное» передают такие слова, как «лошадь», а класс «рукотворное» — такие, как «стол»), другие представляют абстрактные понятия или идеальные объекты (например, «свобода» или «квадратный корень»), третьи — класс так называемых «социальных объектов», к которым относятся свадьбы, деньги, ученые степени и т. д., то есть любые единицы, учрежденные посредством коллективного соглашения или посредством закона[44]. Однако существуют также семиотические объекты, представляющие целые структуры или отдельных индивидов, для обозначения которых используются имена собственные: «Бостон» или «Джон Смит». Я не являюсь сторонником теории жестких десигнатов, по которой, невзирая на любые изменения и обстоятельства, выражение обязательно указывает на один и тот же предмет во всех возможных мирах. Я убежден, что любое имя собственное — это стержень, на который мы насаживаем набор характеристик; так, имя «Наполеон» несет в себе информацию о наборе специфических свойств: человек, который родился в Аяччо, был генералом французской армии, стал императором, выиграл сражение при Аустерлице, умер на острове Святой Елены 5 мая 1821 года, и так далее[45].
Большинству семиотических объектов присущ один важный атрибут: все они имеют возможный референт. Другими словами, они имеют свойство либо существовать в настоящем (как в случае словосочетания «гора Эверест»), либо существовать в прошлом (как в случае с «Цицероном»), и зачастую само по себе слово или словосочетание передает инструкцию для идентификации такого референта. Слова типа «лошадь» или «стол» указывают на классы ФСО; идеальные объекты типа «свобода» или «квадратный корень» могут быть отнесены к конкретным частным случаям (например, Конституция штата Вермонт иллюстрирует частный случай свободы, гарантированной каждому гражданину; квадратный корень из 3 равен 1,7320508075688772); то же относится и к социальным объектам (событие X — пример свадьбы). Однако существуют объекты нерукотворного, рукотворного, абстрактного или социального типа, которые невозможно соотнести с каким бы то ни было индивидуальным опытом. К примеру, нам известно значение (предполагаемые свойства) понятий «единорог», «Святой Грааль», «третий закон робототехники» в формулировке Айзека Азимова, «квадратура круга» и «Медея», но в окружающем нас физическом мире ни одного частного случая перечисленных объектов мы не найдем.
Я бы назвал такого рода сущности чисто интенциональными объектами, если бы этот термин не был ранее использован Романом Ингарденом для иных целей[46]. Для Ингардена чисто интенциональными объектами являются такие артефакты, как церковь или флаг, — их прошлое бытие означает больше, чем сумма их материальных компонентов, причем последние, в свою очередь, есть нечто большее, чем, скажем, просто кусок материи, поскольку наделены символическим значением, базирующимся на совокупности социальных и культурных конвенций. Однако, невзирая на это определение, слово «церковь» несет в себе критерии для идентификации церкви, по которым можно понять, из какого материала она должна быть сделана и какого приблизительно размера должна быть (сделанная из марципана миниатюрная копия Реймского собора — это не церковь), и, следовательно, можно отыскать ФСО, являющиеся церквями (такие как собор Нотр-Дам в Париже, собор Св. Петра в Лондоне или храм Василия Блаженного в Москве). Если же мы назовем чисто интенциональными объектами литературных персонажей, мы тем самым укажем на набор свойств, не имеющих материального эквивалента в реальном мире. Словосочетание «Анна Каренина» лишено какого бы то ни было физического референта; в нашем мире нет ничего, о чем можно сказать: «Это — Анна Каренина».
Давайте же назовем литературных героев абсолютно интенциональными объектами.
Карола Барберо предположила, что литературные персонажи являются «объектами высшего порядка, то есть принадлежат к тому виду объектов, которые суть нечто большее, чем просто сумма их свойств. Объекты высшего порядка «по определению испытывают общую (но не жесткую) зависимость от конституирующих их элементов и связей; под «общей» зависимостью подразумевается, что, дабы быть тем, чем он является, объекту требуются некоторые элементы, организованные определенным образом, однако он не нуждается именно в этих конкретных элементах»[47]. Обязательное условие для узнавания объекта — чтобы он сохранял гештальт, постоянное соотношение между составляющими, даже если сами по себе эти элементы меняются. Таким объектом является, например, «экспресс в 16.35 из Нью-Йорка в Бостон», поскольку он остается узнаваемым в качестве одного и того же поезда, хотя составляющие его вагоны и локомотив могут каждый день меняться. Более того, он останется тем же узнаваемым объектом, даже если его существование отрицается, как в случае с утверждениями «экспресс в 16.35 из Нью-Йорка в Бостон отменяется» или «по техническим причинам отправление экспресса в 16.35 из Нью-Йорка в Бостон переносится на 17.00». Классическим образцом объекта высшего порядка является мелодия. Соната № 2 си-бемоль минор для фортепиано Фредерика Шопена будет мелодически узнаваема, даже если ее исполнить на мандолине. Допустим, с эстетической точки зрения результат будет ужасен, но мелодический рисунок останется неизменным. Пьеса останется узнаваемой, даже если исполнитель пропустит несколько нот.
Интересно было бы выяснить, сколько нот можно пропустить, не разрушив при этом гештальт музыкального произведения, и какие из них совершенно необходимы (являются «диагностическими»), чтобы мелодия сохранила узнаваемость. Однако это не теоретическая проблема, а скорее задача для музыкального критика, причем задача с множеством вариантов ответа — в зависимости от объекта анализа.
Мы затронули очень важную тему, поскольку столкнемся с той же проблемой, сделав предметом анализа не мелодию, а литературного персонажа. Будет ли Эмма Бовари той же самой Эммой Бовари, если она не совершала самоубийства? В процессе чтения книги Филиппа Думенка действительно складывается впечатление, что перед нами тот же самый персонаж, о котором писал Флобер. «Оптическая иллюзия» объясняется тем, что в начале романа Думенка Эмма Бовари уже мертва и упомянута как женщина, «предположительно» покончившая с собой. Предложенная автором альтернативная версия (что Эмма была убита) остается частным мнением отдельных персонажей книги Думенка и не нарушает основных атрибутов Эммы как персонажа.
Барберо вспоминает рассказ Вуди Аллена «Случай с Кугельмасом», в котором мадам Бовари на своеобразной машине времени переносится в современный Нью-Йорк, где у нее завязывается интрижка[48]. Героиня Аллена выглядит пародией на флоберовскую Эмму Бовари: носит брюки, смотрит телевизор и гуляет по Центральному парку. И все же она остается узнаваемой, поскольку сохраняет значительную часть своих диагностических свойств: принадлежит к мелкой буржуазии, замужем за врачом, живет в Ионвилле, недовольна жизнью в провинции и склонна к адюльтеру. В рассказе Аллена Эмма не кончает с собой, но — и это принципиально для иронического характера истории — очаровательна (и желанна) именно потому, что находится на грани самоубийства. Чтобы не опоздать, главный герой рассказа, Кугельмас, должен волшебным (научно-фантастическим) образом появиться в мире флоберовского романа до того, как начнется последняя любовная связь Эммы Бовари, окончившаяся ее самоубийством.
Ознакомительная версия.