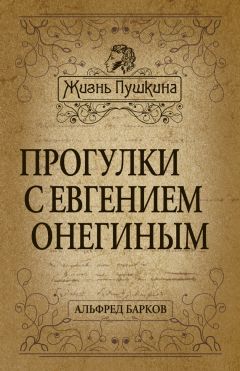Если исходить из содержания многочисленных работ, в которых авторы пытаются доказывать, что главной темой этического пласта романа является апологетика преступления Пилата, то вложенные в его уста обвинения можно было бы расценивать как подтверждение сентенций В.И. Лосева, В. Гудковой, М.А. Золотоносова. Собственно, к этому дело и идет – медленно, но неуклонно. Например, В.В. Петелин в своих работах довольно размашисто, с явно выраженных этатических позиций («Пилат – Петр Великий – Сталин») и не скупясь на розовую краску, пытается доказывать, что Пилатом-де руководило благородное чувство долга перед родной державой, и что по отношению к Христу он поступить иначе просто не имел права:
«В отечественной и мировой истории порой находят такие поступки и действия крупных личностей, которые с точки зрения морали называют злом. Но это «зло» способствует благу жизни, раскрывает добрые перспективы общеисторической судьбы. Отдельные люди могут страдать при этом, проклинать «злого» человека, принесшего им столько страданий и слез, но общее дело зато выигрывало (прекрасная иллюстрация идей гитлеровского «Майн кампф» – автор, похоже, не приемлет тезиса Достоевского о слезинке одного ребенка ради «общего дела» – А. Б.).
[…] Как государственный деятель, Пилат посылает Иешуа на смерть. Иного выхода у него не было. Он оказался в трагическом положении, когда должен утверждать приговор вопреки своим личным желаниям. Так поступал Петр Великий, подписывая смертный приговор собственному сыну. Так поступил Сталин, когда отказался спасти сына Якова путем обмена на Паулюса […] Интересы государства здесь выше личных желаний. На этом стоит и стоять будет государственность, законы и положения […] Булгаков прощает Пилата, отводя ему такую же роль в философской концепции, как и Мастеру»10.
Лихо – ну прямо «За Родину, за Кесаря!», да и только! Но ведь еще Фарраром было отмечено: «Страдавшего при Понтийском Пилате, – так в каждом христианском исповедании поминается несчастное имя Римского прокуратора»11. А что Булгаков пользовался работами Фаррара при создании романа, общеизвестно.
Словом, булгаковедение уже вплотную подошло к той черте, когда авторитет Булгакова вот-вот возьмут на вооружение издания черносотенного толка.
Да, но почему подбираются к этой теме как бы с задворок? Да потому, что несмотря на все старания, не получается образ верного долгу служаки Пилата. Ведь, перечитывая «ершалаимские» главы, каждый раз находишь новые штрихи, характеризующие его изощренное лицемерие. Нет, не о величии государства думает этот человек, как это пытается приписать ему В.В. Петелин, а просто спасает свою шкуру. Волчью шкуру (во второй полной рукописной редакции, опять же опубликованной В.И. Лосевым, Пилат прямо и откровенно сравнивается с волком: «Четыре глаза в ночной полутьме глядели на Афрания, собачьи и волчьи»; собачьи – верной Банги, волчьи – Пилата)12. Да и кесарь в решающую минуту представился Пилату не в величественном облике, а в виде плешивой головы с разъедающей кожу язвой на лбу, с запавшим беззубым ртом и отвисшей нижней капризною губой. Какое уж там величие…
…Муки совести, описанные Булгаковым? Да, но они не заменят саму совесть. Перефразируя слова другого персонажа романа, можно сказать, что совесть бывает только единственной свежести; она либо есть, либо ее нет совсем, и никакие муки саму совесть заменить не могут (хотя почему, собственно, «перефразируя»? Разве действительно осетрину имел в виду Воланд, – простите, сам Булгаков, говоря о «первой свежести»?..) К тому же совесть, если она есть, срабатывает до преступления; правомерно ли говорить о ней, если преступление совершено?
…Убийство Иуды как попытка внести хоть какую-то справедливость после свершившейся трагедии? Нет, Булгаков четко показывает, что это – очередной акт проявления трусости, а точнее – трусливой мести Иуде за собственное малодушие. Но и месть фактически не удалась – попытка одного предателя смыть кровью другого со своих рук кровь Иешуа душевного успокоения не принесла.
Нет, не тот человек Пилат, устам которого мог бы доверить Булгаков высказать что-то свое, личное… Совсем наоборот: вложив в уста трусливого лицемера адресованное еврейскому народу обвинение, он этим самым опровергает его смысл, придавая ему противоположный знак. Да и ситуация дает однозначное толкование этой теме: нельзя доверять суждениям человека, обвиняющего целый народ в преступлении, которое он сам же и совершил из-за своей трусости, что подчеркивается особо. Собственно, это обвинение приводится Булгаковым в развитие ситуации с Иудой, которого Пилат не казнил, а подло убил из-за угла.
Эти соображения в равной степени применимы и к вариантам из ранней редакции, что совершенно лишает почвы для рассуждений о «не прозвучавших в полную силу» творческих замыслах Булгакова. Просто замысел был не тот, какой хотелось бы кому-то видеть.
Итак, сцену с обвинениями Пилата следует рассматривать как апологетику еврейского народа, неповинного, по мнению писателя, в том, в чем его обвиняют черносотенцы. Это -, настолько существенный тезис, что Булгаков счел необходимым неоднократно продублировать его в тексте. Поскольку и эти места в романе внимания исследователей не привлекли, привожу их:
…«Мы теперь будем всегда вместе […] Раз один – то, значит, тут же и другой! Помянут меня, – сейчас же помянут и тебя!» Эти обращенные к палачу слова жертвы созвучны с приведенным выше высказыванием Фаррара. Они означают, что одиозная слава Пилата в поколениях будет неразрывно связана с именем Иисуса. Это – не что иное, как прямое обвинение Пилата, и только его одного; обвинение, отрицающее вину народа. И оно тем более значимо, что вложено в уста самого Иешуа.
Еще один очень важный момент, выпавший из поля зрения исследователей, – диалог Пилата с Левием Матвеем. На предложение прокуратора поселиться в Кесарии и служить в его библиотеке Левий ответил отказом.
« – Почему? – темнея лицом, спросил прокуратор, – я тебе неприятен, ты меня боишься?
Та же плохая улыбка исказила лицо Левия, и он сказал:
– Нет, потому что ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил». Находящийся рядом с блудницами на самой нижней ступени общества, презираемый всеми и не допускаемый в Храм жалкий мытарь осмеливается на неслыханную дерзость, – он не только не выражает своего страха перед свирепым прокуратором, но, наоборот, утверждает, что тот сам будет его бояться. Бояться потому, что это он, прокуратор, убил Иешуа. Только он один, ни о какой вине народа речи здесь нет. В качестве последней точки в этом вопросе служит неожиданная реакция прокуратора:
« – Молчи, – ответил Пилат, – возьми денег».
То есть, вместо того, чтобы уничтожить Левия на месте за дерзость, он пытается откупиться, фактически признавая этим самым свою вину.
Но и это не все. Булгаков заставляет Пилата идти на еще более невиданное унижение: ссылаясь на авторитет Иешуа, прославленный своей свирепостью прокуратор просит жалкого мытаря о милости к себе: «Ты жесток, а тот жестоким не был …» Таким образом, диалог Пилата и Левия несет значительную идейную нагрузку, раскрывая истинное отношение Булгакова к апокрифическому толкованию т.н. «исторической вины» еврейского народа.
Как видим, при создании романа «Мастер и Маргарита» в качестве одного из стержневых моментов этического пласта ершалаимских глав мыслилась апологетика еврейского народа в контексте пресловутой «исторической вины». С другой стороны, достойно глубочайшего удивления то обстоятельство, что, кроме необоснованных и, к счастью, достаточно неквалифицированных попыток приписать Булгакову проявления антисемитизма, в огромном потоке околобулгаковских исследований нет ни одного упоминания о том, что в окончательной и знаменитой на весь мир редакции романа эта тема присутствует вообще. А ведь именно она прямо указывает на основной прототип образа Мастера, которым, конечно же, сам Булгаков ни в коей мере не является13.
Подытоживая сказанное, следует отметить, что роман «Мастер и Маргарита» свидетельствует об активной апологетической позиции Булгакова в отношении т.н. «исторической вины» еврейского народа; эта позиция четко проявляется на всех стадиях работы над романом. Преднамеренность включения этой темы подтверждается и ее особой, стержневой ролью в фабуле, где она несет двойную нагрузку, являясь еще и своеобразным ключом, указующим не только на личность прототипа образа Мастера, но и на тональность, в которой должен быть прочитан весь этический пласт.