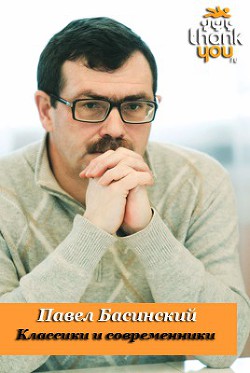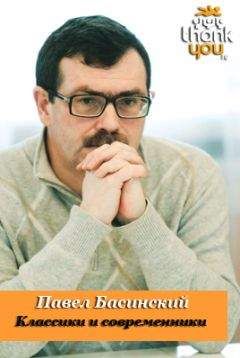Сальери, в общем-то, славный парень… С ним хорошо до тех пор, пока он не начинает «грузить» Моцарта своими комплексами, проистекающими от жуткой амбициозности и непробиваемой глухоты во всем, что касается не самого творчества, а творческого поведения. В этом смысле Сальери как слон в посудной лавке. С ним неловко, стыдно находится рядом. «Я знаю, я». Я! Я! Я! Да помолчи же ты, о господи!
Моцарт морщится и прячет глаза. Ему хочется сбежать из этой клетки творческого допроса с пристрастием:
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь…
Ба! Право? может быть…
Но божество мое проголодалось…
Моцарт может позволить себе шутить. Для него Муза — любовница, к которой он сбегает от законной супруги буквально с супружеского ложа:
Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Это совсем не значит, что его отношения с любовницей просты и беспечны. О, она лукава, капризна! Она изводит его своей страстью и требует принесения всего себя на алтарь любви. Но она желанна. Сальери для Моцарта — это вторая законная жена. Сальери требует творческого отчета и постоянных заверений в своей верности. «А — как ты меня любишь… как?» Да — на тебе!
Он же гений,
Как ты, да я. А гений и злодейство,
Две вещи несовместные. Не правда ль?
Сколько носятся с этой моральной сентенцией, как бы само собой подразумевающей, что кто-то может знать, что такое гений. А ведь это единственная сентенция, которая произносится Моцартом на протяжении всей пьесы и которая является как бы поддавком для Сальери. «Не правда ль?» Давай, брат Сальери, порассуждай, ведь ты это так любишь! Ты ж без этого куска проглотить не можешь. (Разговор происходит в трактире.) Философствуй, Сальери! А я покуда выпью, покушаю и тебя послушаю.
Задача Сальери затащить Моцарта в философскую ловушку под названием «гений и злодейство», «моцартианство» и «сальеризм». Задача Моцарта не попасть в нее, да и приятеля своего спасти. Моцарт слишком благороден, чтобы оставить друга в беде. Он не простодушен, а великодушен, а это громадная разница. В его гибели (явно им предчувствуемой) есть какая-то неслыханная щедрость. Да убивай, черт с тобой! Только прекрати нудить!
Нет, не прекратит. Пьеса заканчивается, как и начинается, монологом Сальери. Ну, как же — он еще должен эпитафию на могилу приятеля сочинить и подписаться. Этакая неутешная вдовушка!
Самое поразительное, что тень Сальери (и только Сальери) витает над всем последующим культурным пространством, порожденным этой великой пьесой. Пушкин и Моцарт остались в стороне. Мы же обречены вечно задаваться вопросом о «моцартианстве», вопросом, который задает Сальери и который доводит его до убийства своего друга-гения. Так и мы обречены вечно исследовать живой дух культуры, чтобы пленить его, «взять» его себе.
1998
Камергер русской речи. К 190-летию со дня рождения И. С. Тургенева
28 октября (9 ноября н. ст.) в Орле в старинной дворянской семье родился Иван Сергеевич Тургенев. А скончался он в пригороде Парижа Буживале, загородном доме великой певицы Полины Виардо.
Благодарные французы не довольствовались отпеванием Тургенева в русской православной церкви и на станции железной дороги устроили специальную траурную часовню, где собралась французская художественная элита. Первым говорил Эрнест Ренан. «Его устами глаголет Бог!» — воскликнул он.
Камергер — почетная придворная должность. Камергер должен был носить мундир с золотым шитьем на воротнике, обшлагах, карманных клапанах и на полях треугольной шляпы с плюмажем, а также золотой с бриллиантами ключ на банте из голубой Андреевской ленты. Настоящим камергером в старости был друг Тургенева Афанасий Фет, и литературные коллеги над этим даже посмеивались.
Но этот золотой ключ, символ Хранителя, несомненно, должен был принадлежать Тургеневу. Только ключ этот был бы не от двора, а от таинственного ларца, где хранился в неприкосновенности эталон русской литературной речи.
Когда Иван Бунин писал: «И нет у нас иного достоянья. // Давайте же беречь// Хоть в меру сил в дни злобы и страданья// Наш дар бессмертный — Речь!» — он, несомненно, помнил о «стихотворении в прозе» Тургенева «Русский язык»: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?» Конечно, Тургенев знал, что главным хранителем русской речи, камергером двора его высочества русского языка в середине 19-го века был именно он. И когда Ренан воскликнул: «Его устами глаголет Бог!» — он, может быть, бессознательно выразил это. Язык — не дело рук человеческих. Это — Божий дар.
За два месяца до смерти, зная определенно, что умирает, Тургенев пытался передать этот ключ бывшему другу, а затем антагонисту Льву Толстому. Письмо это часто цитируется, но — что поделать. Так же часто мы смотрим на часы, чтобы сверить время.
«В город Тулу. Его сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому.
Милый и дорогой Лев Николаевич! Долго Вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре… Пишу же Вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником — и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда всё другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует!.. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку…»
«Эта бумажка» — завещание Тургенева. Но Толстой ключ не принял. Он тогда почти презирал литературу, занимаясь как бы духовным строительством самого себя, готовился к первой попытке ухода из семьи, чтобы отрясти от ног мирской прах. И — ключ затерялся. Ларец был взломан, и русской речью уже пользовался кто хотел и как хотел, что происходит до сих пор. Потому и написал в 1914 году гневные и страстные строки Бунин: «Давайте же беречь!»
Задумайтесь, почему учителя-словесники так любят использовать Тургенева для школьных диктантов? Да потому, что именно так надо правильно писать! Тургенев был и остается хранителем русской языковой нормы. Но это так скучно — скажете вы. Однако не считается скучным хранить меру весов и эталон времени. На этом держится цивилизация. Русская цивилизация с ее главным достоянием — русским языком — держится, в частности, благодаря Тургеневу. Начитавшись Сорокина и Пелевина, Донцову и Маринину, не худо иногда свериться с эталоном настоящей, подлинной русской речи, а эталон этот хранится в томах Тургенева, в «Записках охотника», «Отцах и детях», «Степном короле Лире», «Месяце в деревне»…
Вторая заслуга Тургенева перед русской цивилизацией состоит в том, что он не уставал напоминать нам, что мы — европейцы. Не евроазиаты, как нам настойчиво пытаются внушить и что выходит чуть ли не на государственный уровень, но — европейцы! При этом Тургенев очень «почвенный» писатель. Только «почвенник» мог написать «Певцов» и «Живые мощи! — великие гимны русскому крестьянству. Но недаром и Гонкуры, и Флобер признавали, что французский язык Тургенева — чище, лучше, литературнее, чем у французов. Недаром незадолго до смерти его чествовали в Лондоне как первого европейского прозаика. И даже его несчастная связь с Полиной Виардо, приносившая столько страданий, послужившая одной из главных причин разрыва с матерью, и даже смерть его не в любимом Спасском, а в пустом доме в Буживале, где его оставили умирать от рака, посещая в самые последние дни, — видится мудрым поступком. Тургенев самой смертью, последним вздохом неразрывно связал нас с Европой. Но ведь и Европу — с нами. Попробуй теперь разорви!