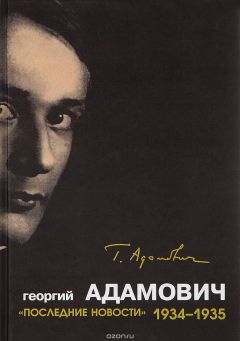— Провожал девушку.
Маша ворчит, но в глубине души довольна: «он — легкий, живой, свободный, счастливый, новый». «Ты чудовище, но я тебя обожаю», — признается она. Настроение ее, однако, портится, когда «девушка» является на квартиру к Завьялову. Маша закатывает классическую сцену ревности. Таня, «девушка», убегает. Завьялов уходит за ней, ибо дома ему «душно»: его манит дорога цветов. Маша плачет и ломает руки. Теща ей поддакивает: «ушел — и, главное, без калош». На этом восклицании кончается первое действие, — блестящий образец драматической «экспозиции», в которой несколькими словами обрисованы все герои и показаны все нити фабульного клубка.
Далее — Завьялов у Тани. Здесь разыгрывается нечто вроде советского варианта ибсеновской «Норы». Таня растратила общественные деньги, собранные на заводе для приобретения мануфактуры. Растрату она совершила ради Завьялова. Ей грозит суд, позор. У Завьялова деньги есть, но Танина беда его не трогает. Ему даже чудится шантаж. Ему «душно» и у нее. Дорога цветов привела его не туда, куда следовало. По счастью, появляется на его пути Вера Разгольдер, советская барыня нэповского толка, «пикантная и прелестно одетая». Завьялов уходит к ней.
Счастье. Единение двух близких, родственных душ. Вера по телефону сообщает своей подруге:
— Он новый до мозга костей, смелый, солнечный, такой современный, современный. В нем ничего мещанского, ничего банального… Я сошла с ума. Ничего не соображаю. С первого взгляда. Я даже думаю, у меня повышенная температура.
Завьялов с Верой собираются в Крым. Но в самую последнюю минуту поездка расстраивается. Обе «новые» личности бранятся так, как не часто бранились и в прогнившем старом быту. Причина раздора — опять финансовая. Завьялов решает вернуться к Маше. Но Маша уже забыла его и вышла замуж за давнего прия-теля-доктора. Завьялов бросается к Тане, но и Таня узнала ему цену. Завьялов остается один. В довершение несчастий в «Правде» появляется громоподобная статья, в которой его, любимца масс, пророка будущего человека, величают «пошляком у микрофона».
Завьялов подавлен. Перед ним нет больше не только дороги цветов, но и вообще никакой дороги.
Я назвал случай, положенный Катаевым в основание пьесы, трагикомическим. Действительно, несмотря на шутливый и сатирический тон автора, заключительная сцена комедии звучит грустно, — может быть, вопреки воле Катаева. Его герой глуп и пошловат, — но при этом беззаботен. Возмездия он не понимает, он его не ждет, оно ему представляется глубокой, незаслуженной обидой, — и для того, чтобы «Дорога цветов» была бы пьесой совсем веселой, Катаев в образе Завьялова чего-то не дочернил, не дорисовал. Оправданием ему, впрочем, служит то, что замысел комедии не столько психологический, сколько бытовой. Комедия в развитии своем не идет в глубину, растекается по поверхности. С этой точки зрения она крайне любопытна. Катаев один из тех авторов, которые не только показывают нам советскую жизнь, будто картинку в книжке, а вводят в самую толщу ее, позволяют ее послушать, понюхать, потрогать руками.
Наши здешние русские театры нередко жалуются на отсутствие советских пьес, которые могли бы заинтересовать зрителя-эмигранта, не утомляя и не оскорбляя его. Будто бы ничего нет подходящего: — то сплошная пропаганда, то диалоги о нормах выполнения посевного плана… На «Дорогу цветов» следовало бы обратить внимание. Она, право, стоит пресловутого «Чужого ребенка».
* * *
Короткий рассказ — форма трудная и в современной русской литературе мало распространенная. Из советских беллетристов, кроме Бабеля и Зощенко, никто коротких рассказов в сто или полтораста строк не пишет. В самое последнее время к ним пристрастился Пильняк — и, судя по первым опытам, они ему удаются много лучше, чем пухлые, многословные романы с лирическими отступлениями и туманными размышлениями о самом себе, о революции, о метелях и проблематической связи этих метелей с ленинизмом-сталинизмом.
Рассказы могли бы быть вполне хороши. Беда только в том, что от революционных вихрей, ленинизма и самого себя Пильняку редко удается отделаться, и чуть ли не в каждый рассказ, своеобразно задуманный, отлично начатый, он, в конце концов, эту «ложку дегтя» вливает. А иногда с дегтя он и начинает, что приводит к результатам совсем печальным. Нельзя, все-таки, отрицать, что десять или двенадцать рассказов, напечатанных Пильняком в последнее время (главным образом, в «Новом мире», — книги 3 и 4) — явление в советской литературе заметное и значительное. Если бы только не деготь.
Например, «Мастера». Какой бы это мог быть чудесный рассказ, полный смысла в своем лаконизме. Но «влил» в него Пильняк не ложку благоуханной жидкости, а добрых полведра. У художника Гузикова, безнадежно больного человека, стоит в мастерской старый рояль, работа мастера Майбома, славившегося в начале прошлого века. Рояль разбит, грязен, заброшен. После смерти владельца он попадает к его молодому приятелю — и тот хочет реставрировать инструмент. Старик-немец любовно осматривает рояль:
— Адольф Майбом… Майстэр натшало прошлий век. Адольф Майбом биль утшитель моего утшителя Карла Бернса… Скрябин не будет звутшать на этот фортепиано, сто лет назад биль не такой звук, как есть сейтшас. Но великий Бетховен! Хорошо, я сделаю этот инструмент, он будет звутшать, как он звутшал сто лет назад… Адольф Майбом, он умер в пятьдесят третий год прошлий столетий, он биль утшитель моего утши-теля… Инструмент будет жить.
Но немцу не приходится исполнить свою мечту. Ему восемьдесят четыре года: он умирает, не успев приступить к работе. Приходят другие мастера:
— Не-ет-с, починить невозможно. И нет смысла. Купите новый инструмент… А материал — дерево — хорош. Сделайте шкаф, либо стол, либо диван. Материалу много.
Наконец один из них соглашается оживить рояль. «Я сделаю так, как сделал бы Иоганн Августович. Я сделаю это в память Иоганна Августовича». Но знаете ли откуда у молодого мастера такое рвение, откуда у него такой пиетет к памяти скончавшегося немца? Дело в том, что Иоганн Августович был членом коммунистической партии. Притом — с 1903 года. И об этом молчал. «Великой скромности был человек». Как же в самом деле не расчувствоваться?
В одних только рассказах о животных Пильняк поневоле освобождается от демонстрирований политической благонадежности. Они и удачнейшие из всех.
В «Собачьей судьбе» полторы страницы. Собака ощенилась. У нее отняли одного щенка, а на следующий день вернули — так как щенок был слишком мал и еще не мог есть. Собака злобно обнюхала сына и оскалила зубы. Как ни бились хозяева, она узнавала его среди других щенят — и, в конце концов, растерзала. Хозяйка расплакалась. «Глаза собаки стали умными, грустными и виноватыми». Только и всего, но в этой случайной, ни на какую особую художественность не претендующей, заметке больше проникновения в настоящую жизнь, и больше понимания ее, чем в домыслах о людях, которым Пильняк механически навязывает механические соображения и чувства. Не хуже и второй «собачий» рассказ — «Товарищи по промыслу».
Породистый пес Глан презрительно косится на дворняжку Машку. Он всегда сыт, он неразлучен с охотником-хозяином, а она, Машка, и зимой и летом побирается по чужим дворам. На беду хозяин уезжает. Глан в это время был в бегах и, вернувшись, нашел дом заколоченным. Начинается новая жизнь: приходится ему промышлять в компании с Машкой.
Я передаю содержание этих рассказов вовсе не потому, что думаю, будто бы в передаче может сохраниться их прелесть. Нет, цель у меня другая: дать понятие об их простоте. Со временем может оказаться, что именно по ним будут судить и ценить Пильняка, а вовсе не по «Голому году» или «Волге, впадающей в Каспийское море».
<«ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ» К. ФЕДИНА>
Новый роман Федина — писателя добросовестного и вдумчивого — крайне характерен для того пути, который проделала советская литература, и того состояния, в котором она теперь находится.
Можно по разному объяснять эту печальную «эволюцию». Можно придумать разные формы для нее и исписать десятки страниц в ее исполнение. Сущность, однако, останется та же самая: «укатали сивку крутые горки», — как выразился однажды Луначарский о Гете. Для того, чтобы вполне ясно отдать себе отчет в размерах «укатания», лучше всего вспомнить, что началом советской литературы была блоковская поэма «Двенадцать»… С тех пор не так уже много прожито, но пережито много. Круг все суживался, потом все мельчал, — и вот, наконец, перед нами скудные и скучные плоды словесности, окончательно «прибранной к рукам» и сведенной к более или менее искусной разработке единого, общеобязательного замысла. Было время, когда в советской литературе чувствовалась возможность какого-то грубоватого, но подлинного величия. Казалось, еще одно усилие — и литература эта вырвется к простору личных ответов на сомнения, вопросы и надежды эпохи. Если ей и не доставало зрелости, то не хотелось думать, что развитие ее пойдет параллельно с постепенным отказом от всего ее творческого содержания.