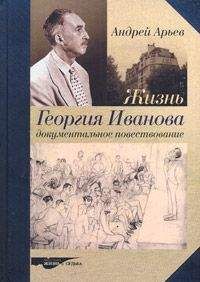Ближайший друг Георгия Иванова той поры Георгий Адамович еще в 1919 году, начиная стихотворение строчками о Балтике, заканчивает его Троей: «Тогда от Балтийскою моря / Мы медленно отступали / <…> / И вдали голубое море /у подножия Трои билось». И через целую эпоху, в 1955 году, пишет Юрию Иваску: «Для меня в слове „Троя" столько всего, что само упоминание о ней — для меня поэзия».
В европейской литературе видение «гордого Илиона», навсегда разоренной Трои служило поводом для поэтических медитаций и художественных аллюзий с тех пор, как она осознала себя литературой. Как Эней у Вергилия, покинув Трою, превратил свою жизнь в подвиг самоотречения, так уехавшие в 1920-е годы на Запад петербургские мыслители и художники провозгласили за границей своим кредо переживания самые возвышенные: «Я не в изгнанье — я в посланье…» Эта дважды повторенная в «Лирической поэме» 1924—1926 годов строчка Нины Берберовой недаром — и постоянно — приписывалась одному из столпов русской диаспоры Мережковскому.
И пусть отплывшие по балтийским волнам «троянцы» нового Рима не основали, свою обреченность на судьбоносное скитальчество они ощутили раньше, чем это происходило с людьми культуры до них — в сходных исторических условиях. Петербург стал для них Троей еще в Петербурге.[18]
В годы красного террора увлечение тонкостью неявных художественных соответствий есть признак окончательного отвращения к современности. Но не есть, конечно, прерогатива Иванова с Кузминым. Всех перещеголял тут автор «Мелкого беса», выпустивший в 1922 году в Петрограде «русские бержереты» — сплошь про амуров:
Румяным утром Лиза, весела,
Проснувшись рано, в лес одна пошла.
Или:
В лугу паслись барашки,
Чуть веял ветерок.
Филис рвала ромашки,
Плела из них венок!
И все же (при всей корпоративной умышленности) попытка преодоления исторической жизни средствами одного лишь «нового трепета» — предмет особых индивидуальных забот и отчасти само содержание лирики Георгия Иванова. Не только пореволюционного.
В культурологическом плане его и на самом деле можно сравнить с Теофилем Готье, напечатавшим первый сборник стихотворений о любви и захватывающих прелестях вещного мира в разгар Июльской революции 1830 года и переиздавшим его в 1832-м — во время холеры. По его заветам, «в часы всеобщей смуты мира» следовало быть олимпийцем на манер Гете.
Гумилев, выпустивший в 1914 году переведенные им «Эмали и камеи» Готье, несомненно, провоцировал своих друзей на подобное отношение к бурям века.
Если посмотреть на даты написания процитированных стихотворений русских поэтов, то поразишься: от надмирных созерцаний их не отвратила ни мировая война, ни Февральская революция, ни октябрьский переворот, ни военный коммунизм, ни, наконец, 33-й купон на гроб — неотъемлемая составная часть карточек, выданных несентиментальными большевиками оставшемуся в живых населению Петрограда.
А у нашего поэта все одно: «Эоловой арфой вздыхает печаль…» — 1921 год, конец «серебряного века».
В огромное окно с чудесной высоты
Я море наблюдал…
(«Над морем северным холодный запад гас…»)
Высота поэзии казалась Георгию Иванову в ту пору «чудесной» для любых времен. Осипу Мандельштаму, назвавшему, вслед за Блоком, эту высоту «страшной», он внять не захотел принципиально. То есть слово «страшный» окрашено было для него романтическим ореолом, говорило не о «страхе», а о жизненном «подвиге» во имя поэзии. Едва ли не последние слова, написанные им на родине — в сентябре 1922 года, — в качестве вступительной заметки к «Письмам о русской поэзии» Николая Гумилева, были о Поэзии как «о подвиге, высшем из дел, доступных человеку». И что бы там потом ни говорили вслед уехавшему поэту его былые литературные знакомцы, и стихи и статьи расстрелянного поэта собрал и издал именно Георгий Иванов, а не они.
На «страшную высоту» «высшее дело» вознесло Георгия Иванова уже в эмиграции. В краях, где все, в том числе все свое, было «не то». «…Читателей у нас нет, Родины нет, влиять мы ни на что не можем», — писал поэт.
Лишь оставленный 26 сентября 1922 года за кормой парохода Петрополь годами насылал из тумана живительные тютчевско-мандельштамовские образы: «…в то же время самый простодушный из нас „блажен", „заживо пьет бессмертие" и не только вправе, — обязан глядеть на мир со „страшной высоты", как дух на смертных; <…> ключи страдания и величия России даны эмигрантской литературе…»
Не правда ли, удивительно это услышать от человека, пять революционных лет прожившего в Петрограде неважным советским обывателем?
Но были, были в ивановской гипнотической заторможенности и прямое достоинство, и честь: ничего вокруг не замечать, не приноравливать перо на службу властям, не тратить на них ни вдохновения, ни злости. Да, это позиция поэта , а не психопатический аутизм.
Келейная привычка отвыкания от жизни научила поэта хладнокровно держаться на дистанции от жизни советской.
Право, это великолепно:
Я разленился. Я могу часами
Следить за перелетом ветерка
И проплывающие облака
Воображать большими парусами.
(«Глядит печаль огромными глазами…»)
1920 год…
К счастью-несчастью, стихи Георгия Иванова выражали историческое время в заведомо поэтическом, отраженном свете. В них, как в фокусе, сошлись психологически очень существенные линии русского культурного сознания, и в них же очень мало сколько-нибудь достоверной, конкретной информации, живительных для исторического взгляда на эпоху подробностей.
Да и какие тут могут быть подробности, кроме сомнительных подробностей конца?
До судной поры не пуская в стихи, видел Георгий Иванов этот безысходный распад «державного атома» не хуже иных политиков. И, когда представилась тому свободная возможность, рассказал о нем в гипертрофированных, но достоверных подробностях. Писавшиеся в начале 1930-х годов очерки из истории царствования Николая II он завершает куда как выразительной сценой, эпилогом, мгновенно переносящим действие с палубы императорской яхты «Полярная звезда» в ее трюм. В предшествующем эпилогу абзаце рассказывается о «приятном и успокоительном» путешествии на этой яхте вдоль берегов Финского залива императорской четы в сопровождении «честолюбивой Ани»: «…Цель скрыта в тумане. Она станет ясной позже… спустя тринадцать лет».
И вот канули эти тринадцать серебряных лет — и для поэзии и для «честолюбивой Ани»:
«Схваченная во время бегства в Финляндию, измученная, растерзанная Вырубова, лежа в кишащем вшами трюме, всю ночь слышит споры пьяных матросов — кому и как прикончить „царскую наперсницу" и придется ли рубить труп пополам, чтобы протиснуть в люк. По дикой насмешке судьбы — это трюм той самой „Полярной звезды", где началась ее близость с царицей. Понимает ли Вырубова хоть теперь, к какой страшной цели она стремилась, увлекая за собой царицу, царя и Россию?»
Очерки Георгия Иванова при его жизни в книгу собраны не были, вроде бы и не завершены… Но благодаря неожиданному финалу в них проявился смысловой рифмой заданный внутренний сюжет: так наспех, грязно, кроваво оборвалась сама русская история, ее умопомрачительный Петербургский период.
В стихах об этом скажется еще короче:
Веревка, пуля, каторжный рассвет,
Над тем, чему названья в мире нет.
(«Россия счастие. Россия свет…»)
Известна фраза Георгия Иванова, сказанная в кронштадтские дни: «Я с радостью отдал бы все свои стихи, только бы они победили» И это не была интимная обмолвка, продиктованная разыгравшимся воображением. Вот что он сам пишет через тридцать лет — о собственной причастности (под началом Гумилева) к петроградской «Боевой организации» 1921 года: «Я был и участником злощастного — и дурацкого — Таганцевского заговора — из-за которого он погиб. Если меня не арестовали, то только потому, что я был в „десятке" Гумилева, а он — в отличие от большинства других, в частности самого Таганцева, — не назвал ни одного имени».
Между тем и арестован Георгий Иванов тоже был — как раз после Кронштадтского мятежа. До сих пор не совсем ясны причины этого ареста. Сам поэт выдвигал версию бытовую: за посещение «нелегальной» столовой! Захватив власть, большевики пресекали любое частное предпринимательство, и поэт за одно лишь пользование рыночными услугами отправился на Шпалерную. Понадобились усилия Александра Блока и других известных деятелей культуры, чтобы освободить его (вместе с несколькими другими писателями) из ЧК.