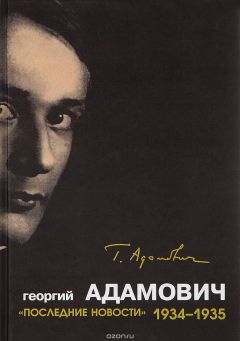* * *
Роман К. Унковского «Перелом» — чистейший, типичнейший образец эмигрантского романа. Все в нем есть: тоска по родине, описание Константинополя и Парижа, размышления о героическом, подвижническом характере русской женщины, мечты о лучшем будущем, рисующемся в виде выигрыша в какой-нибудь фантастической лотерее, нищета, суета, растерянность, несчастная любовь, помесь «французского с нижегородским», — одним словом, все.
Правда, нет «активизма». В некоторых эмигрантских повествованиях действует непременно какая-нибудь красавица, Ася или Тася, бросающая миллионера-жениха ради того, чтобы пробраться в Москву и пристрелить там изверга-чекиста. Ун-ковский настроен миролюбиво и сговорчиво, даже с легким налетом «непротивления злу». Его герой, странствуя по заграницам и вспоминая невозвратное дореволюционное время, чаще думает о своих любовных невзгодах или победах, нежели о кровавой мести большевикам. Если в романе и встречаются беседы или рассуждения на политические темы, то ведутся они, так сказать, «с птичьего полета» и окрашены в тона горестно-скептические и устало-безнадежные. Все суета сует, реально лишь личное счастье.
Студент Шитов потерял свое счастье в России — когда оставил там Любочку Онацкую. Прошло восемь лет. Полуголодный, полунищий Шитов встречает Любочку в Константинополе. Она замужем, однако не отталкивает Шитова, а, наоборот, поддерживает в его истерзанном сердце сладкие надежды. За Любочкой Шитов отправляется во Францию, но здесь в ней разочаровывается. Наступают снова долгие месяцы одиночества и тоски. Шитов сначала работает на заводе в Бельфоре, потом переселяется в Париж. Тут он осматривает достопримечательности и, подчиняясь естественному зову натуры, ищет любви. Любовь приходит в образе Шуры, дочери той дамы, у которой он нанимает комнату. Шура — сорбоннская студентка, «эстетка», но в глубине души обыкновенная русская девушка. Она поражает Шитова блеском своего литературного образования: «Пруст моя настольная книга», — Шитов же по части Пруста совсем слаб. Шура сообщает также, что «обожает д-Аннунцио», а вот «Данте совершенно не выносит»; он ей «кажется ходульным». Несмотря на весь этот вздор, Шура не глупа и была бы по душе Шитову, если бы вела себя чуть-чуть скромней… Вскоре он бежит и от нее. По удачному стечению обстоятельств ему нежданно-негаданно предлагают прекрасное место в Африке, где, наконец, он будет вполне обеспечен. Однако под тропическим небом Шитов томится без Шуры, а она в холодном Париже скучает о нем. Все кончается как нельзя лучше — и на последней странице романа дано обещание, что влюбленные соединятся и будут счастливы. Шитов смотрит на небо и, наблюдая падающие звезды, думает:
— А может быть, там и моя звездочка. И Шурина тоже?
Философски-возвышенные мысли его о мировых катастрофах и гибели вселенной менее отчетливы, нежели порывы любовные.
Роман по фабуле довольно занимателен и написан не без бойкости. Непритязательность стиля доходит до того, что автор изъясняется местами совершенно так же, как его сероватый герой, и пишет, например: «Сестра милосердия, молоденькая, хорошенький сим-помпончик, улыбнулась…»
Вероятно, этими «симпомпончиками» роман украшен умышленно, для придачи ему среднего армейско-беженского колорита.
По названию можно думать, что в свое повествование Унковский вложил какую-то идею. На это есть и намеки в тексте. Но, признаюсь, я не в силах был понять, что судьба Шитова переломилась с переездом в Африку и возвращением Шуры. Думаю, что автору, в собственных интересах, не следует добиваться от читателей, чтобы они непременно роман этот постигли во всей глубине и значение его. Тем более, что «Перелом» может иметь некоторый успех и так, без мировых катаклизмов. Найдутся, несомненно, люди, которым ближе покажется все, что в нем описано и рассказано; они прочитают книгу с любопытством и удовольствием. А про Африку и про то, как там живут редкие наши соотечественники, прочесть будет интересно всякому.
I
Конечно, это было событие «мировое». Максим Горький выразил «твердое убеждение», что «радостная весть о съезде советских писателей прозвенит во всем мире». Ему ответили с мест:
— Уже прозвенела!
Делегаты разъехались «с полной зарядкой для новых творческих боев, побед и достижений». Один сказал, что теперь, после съезда, ужасно хочется писать, как можно больше, как можно лучше». Другой заявил, что «мозг мира перешел в наш союз, и нынче Запад это принужден признать». Правда, с этим не все согласны. В «Литературной газете», например, помещен на первой странице прелюбопытнейший рисунок под названием «Звездный разбег»: писатели разбегаются из зала заседаний во все концы земного шара. Среди бегущих звезд можно узнать Гладкова, Безыменского, Чуковского, Либединского, Новикова-Прибоя и другие светила… Но тут же бежит и осел, настоящий, несомненный, весьма реально изображенный вислоухий осел, очевидно, тоже участвовавший в работе съезда. Как «увязать» это с мозгом мира и кого именно надлежит под ослом подразумевать, — нам неизвестно. Москвичам виднее. Но для полноты информации рисунок «Литературной газеты», во всяком случае, не лишен значения.
Есть признак, по которому, действительно, без всякой иронии можно назвать московский писательский съезд событием «мировым». Если уж говорить о рекордах, как любят говорить о них по всякому поводу в СССР, то следует признать, в эти «незабываемые дни» в колонном зале Дома Союзов были побиты все рекорды угодливости, низкопоклонничества, фальши, казенщины и унтер-офицерского энтузиазма. Об этом невозможно рассказать. Понять это, убедиться в этом может только тот, кто внимательно прочтет все стенограммы заседаний. Атмосфера съезда была, поистине, небывалая в мировой истории, — и если советские публицисты подчеркивают, что «никогда еще мир ничего подобного не видел», то мы должны без колебаний с ними согласиться. Действительно, не видел, и, будем надеяться, не увидит. Эти телеграммы «нашему Сталину», эти медоточивые приветствия, эти клятвы в беззаветной верности и преданности, это оплевывание старой русской литературы и презрительные словечки о «свободе», которой будто бы пользуются писатели в Европе, эти отряды красноармейцев, пионеров, шахтеров, колхозников, металлистов и даже спортсменов, в «спонтанном» порыве всходящие на эстраду и диктующие писателям свои требования, и эти ответы взволнованных, счастливых писателей, и это ежедневное нестерпимое умиление обожествленного Максима Горького, который только и делал, что «смахивал слезу», — в стиле: «уж вы меня, старика, простите!», — нет, повторяю, обо всем этом невозможно рассказать. В дурмане славословия исчезли последние остатки чувства смешного. На съезде произошла, например, такая сцена, — о ней, помнится, сообщалось и в нашей газете. Явилась делегация московского гарнизона и, в ожидании приглашения на эстраду, выстроилась в фойе. Писатели, узнав о прибытии гостей, покинули зал и, «оглашая фойе приветственными криками, стали забрасывать красных бойцов цветами»… (цитирую «Литературный Ленинград»)… Представьте себе реально эту картину: неподвижно, в строю, стоят дюжие краснощекие молодцы, а напротив ошалелые «писатели» что-то кричат и бросают в них фиалками и розами. Сумасшедший дом! Но съезд весь был украшен такими «клиническими» эпизодами, и, насколько можно судить по речам и отчетам, никого они не удивили. Единственное утешение: не все мысли и чувства участников съезда нашли, вероятно, в речах и отчетах отражение.
Основной, вступительный доклад «Алексея Максимовича» произвел на слушателей, будто бы, глубокое впечатление. Доклад этот сейчас «прорабатывается» по всему советскому союзу, на стройках и заводах, в колхозах и на рудниках. В газетах печатаются благодарственные письма Горькому, а какой-то сибирский пионер заявил, что он со своими ребятами решил выучить доклад наизусть. Очень возможно, что восторг двенадцатилетних пионеров вполне чистосердечен. Даже больше, это в высшей степени вероятно и по-своему трогательно. Но что думали во время «нескончаемой овации величайшему пролетарскому художнику» писатели, кое-что на своем веку слышавшие и читавшие, — ну, скажем, Алексей Толстой, Пастернак, Олеша, Эренбург, Федин, Шкловский и другие?.. Оговорюсь, что я ни в какой мере не разделяю довольно распространенного сейчас мнения, будто Горький тупой, ограниченный человек. Горький, мне кажется, по природе умен, сметлив, догадлив и, как все очень даровитые натуры, способен в нужный момент уловить чутьем то, чего не в силах понять. Горький, правда, «прочел слишком много книг», — как смеялся над кем-то Гете, — и не успел в них хорошенько разобраться, но едва только пробивается в нем наружу, сквозь оболочку учителя, мудреца и истолкователя, прирожденный наблюдатель, так ум его и дает себя знать. Неслучайно Горький любит пересыпать все свои поучения и размышления бытовыми сценками или анекдотами: его инстинктивно тянет от книг к жизни, из области теоретических построений в область практики, туда, где ни Маркс, ни Энгельс ему не судья и где он свободен от их указки. Однако доклад свой Горький задумал «строго научно». На протяжении нескольких газетных столбцов он решил вскрыть и объяснить всю историю развития мировой литературы и подвести эту историю к моменту возникновения литературы советской так, чтобы всем стала ясной закономерность в смене эпох, требований и творческих стремлений. Человек более ловкий, более опытный в подобной сомнительной стряпне, любой красный академик типа Луначарского или покойного Петра Когана сумел бы, вероятно, изготовить по такому заданию весьма эффектный доклад, где концы были бы сведены с концами и, как дважды два четыре, было бы доказано, что именно в Москве сейчас живут и работают духовные преемники Эсхила и Шекспира. Кушанье получилось бы, конечно, на вкус невзыскательный, но для «ширпотреба», пожалуй, пригодное… Горький же запутался в своих мудрствованиях безвыходно. Удивительнее всего, что он о советской литературе ничего, в сущности, не сказал, хоть отдаленно похожего на мысль. Начав с баснословной древности и, в полном согласии с популярно-просветительными брошюрками, совершив прогулку по векам, он будто выдохся, дойдя до наших дней, забыл о «научности» и, отделавшись несколькими общими наставлениями и прописными истинами «сталинизма», поспешил кончить. Не только не получилось связи, но не получилось и представления о советской литературе как о чем-либо новом, идейно-революционном, призванном изменить мир: ведь если мы и отрицаем эти ее предполагаемые особенности, то не могут же отрицать их писатели советские, — и естественно было ждать, что первый и авторитетнейший среди них, на первом съезде, в беспримерно-торжественной обстановке, объяснит и провозгласит, наконец, в чем ее задачи, в чем ее «величие», о котором в Москве только и говорят. Не думаю, чтобы запрещение мыслить дошло в СССР до того, что и Горький побоялся высказать какие-либо общие идеи. Вернее предположить, что это банкротство разума надо отнести на его собственный счет. Кроме обычных своих культуртрегерских пожеланий да соображений о «партийном руководстве» и пресловутом социалистическом реализме, Горький не высказал во второй части доклада ровно ничего. В качестве курьеза можно привести его утверждение, что скоро в России будет пятьдесят первоклаcсных писателей: «наметим, чтобы не обманываться, 5 гениальных и 45 очень талантливых». Надо полагать, что это шутка. Но, по слухам и некоторым намекам советской печати, среди «мастеров слова» уже началась глухая борьба за то, чтобы получить местечко в числе избранных пяти или хотя бы сорока пяти. Подмастерья же становятся в очередь: их время еще придет.