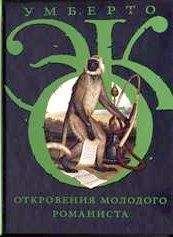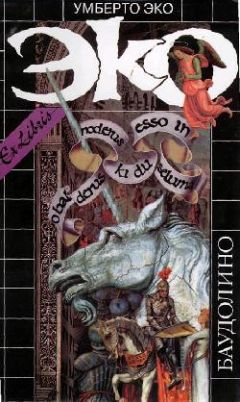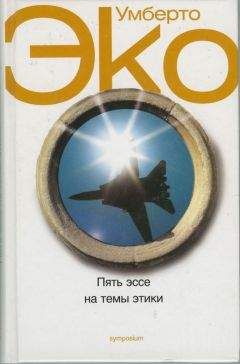Ознакомительная версия.
Мое описание не исчерпывающе: щит вмещает такое количество сцен, что трудно представить себе этот объект во всем многообразии деталей, если только не вообразить, что Гефест при его изготовлении пользовался микроскопом. Более того, изображения разворачиваются не только в пространстве, но и во времени: различные события следуют одно за другим, словно перед нами не щит, а киноэкран или длинный развернутый комикс. Идеальная круговая природа описанного предмета дает нам понять, что за его пределами ничего не существует: это законченная форма.
Гомер сумел выдумать щит, потому что имел четкое представление о сельскохозяйственной и военной культуре своего времени. Он знал свой мир, его законы, его внутреннюю причинно-следственную механику. Вот почему ему удалось придать щиту форму.
Во II песни Гомеру потребовалось создать впечатление многочисленности греческого войска, передать картину, представшую перед глазами троянцев, в ужасе наблюдавших за высадкой этих несметных полчищ. Сначала он сравнивает греков со стаями журавлей или гусей, с криком и шумом пересекающими небосклон, но не находит подходящей метафоры и обращается за помощью к Музам:
Ныне скажите мне, Музы, живущие в домах Олимпа, —
Вы ведь богини, вы всюду бываете, все вам известно,
К нам же доносятся слухи одни, ничего мы не знаем:
Кто у данайцев вождями и кто властелинами были?
Всех же бойцов рядовых я не смог бы назвать и исчислить,
Если бы даже имел языков я и ртов по десятку,
Если бы голос имел неослабный и медное сердце, –
Разве что, дочери Зевса царя, олимпийские Музы,
Вы бы напомнили всех мне пришедших под Трою ахейцев.
Только вождей корабельных и все корабли я исчислю.
Казалось бы, автор пытается сделать повествование по возможности короче, однако даже «краткое» перечисление 1186 ахейских судов занимает примерно три сотни строк оригинального греческого текста. Перечень кажется полным (то есть других вождей и других кораблей, кроме упомянутых, у греков быть не должно), однако автор не может точно сказать, сколько воинов следует за каждым из военачальников, и, соответственно, подразумевает бесконечное их множество.
Гомеровский перечень кораблей — не только замечательный образец литературного списка, но и иллюстрация явления, получившего название топос невыразимости[68]. В трудах Гомера этот топос встречается несколько раз (к примеру, в песни IV «Одиссеи» сказано: «Подвигов всех Одиссея, в страданиях твердого духом,/Ни рассказать не смогу я, ни их перечислить подробно»[69]); суть данного приема в том, что поэт, столкнувшись с неисчислимостью требующих упоминания предметов или событий, использует фигуру умолчания. Данте, например, не может назвать всех ангелов небесных поименно, ибо не знает их числа (в XXIX песни «Рая» говорится, что количество это превосходит способности человеческого разума). То есть поэт, столкнувшись с чем-то невыразимым, вместо того, чтобы пуститься в перечисление бессчетных имен, выражает экстатический восторг перед лицом невыразимости. Дабы усилить мысль о неисчислимости ангельского воинства, Данте использует аллюзию на старинную легенду: «И множились несметней их огни,/ Чем шахматное поле, множась вдвое»[70] (по преданию, изобретатель шахмат попросил у персидского царя в награду за изобретение всего одно хлебное зернышко за первое поле шахматной доски, два — за второе, четыре — за третье, и так далее; к шестьдесят четвертому квадрату число зерен, разумеется, достигло астрономического количества).
В прочих случаях, столкнувшись с чем-то необъятным или неизвестным, о чем нам ведомо слишком мало или чего мы никогда не сможем постичь, автор все-таки использует перечень, но лишь в качестве примера, образца или намека, предоставляя читателю домыслить остальное.
Что касается моих собственных романов, то в них имеется как минимум одно место, где я использовал перечень лишь потому, что был ослеплен чувством восторга перед невыразимым. В отличие от Данте, я не путешествовал по Раю; мое путешествие было куда более приземленным: во время работы над «Островом накануне» я посетил коралловые рифы архипелага Фиджи. В результате у меня возникло ощущение, что человеческий язык не в силах передать всего изобилия, разнообразия и удивительной цветовой гаммы коралловых зарослей и обитающих в них рыб. Но даже если бы я мог эту красоту описать, то мой герой Роберт, потерпевший в тех краях кораблекрушение в далеком семнадцатом веке и, возможно, бывший первым человеческим существом, посетившим тот риф, вряд ли мог выразить свой экстаз в словах.
Дело в том, что коралловые заросли поражают взор бесконечным количеством цветовых оттенков (те, кто видел жалкие коралловые колонии в других регионах, поверьте, не знают, что это значит), тогда как мне требовалось описать эти краски словами, используя риторический прием, называемый гипотипоза. Иными словами, я пытался передать огромное количество цветовых оттенков при помощи огромного количества слов, не используя ни одно из названий цветов дважды, подбирая бессчетные синонимы.
Приведу отрывок из моего двойного перечня кораллов (и рыб) и слов:
Спервоначала он видел только пятна, потом, как бывает, когда корабль туманною ночью находит на скалы и берег внезапной остроконечностью вырисовывается перед людьми, нашел обрубистый уступ, ограничивающий бездну, над коею он болтался. Роберт стащил маску, вылил воду, прижал к лицу, держа обеими руками, и под медленные извивы стоп снова ввадился в картину, промелькнувшую незадолго перед тем.
Вот, значит, кораллы! Первое впечатление, по записям, было беспорядочным, ошеломленным. Огромная тканевая лавка, где раскинулись штофы, атласы, плисы, тафта, парча и паволоки, травчатые, лощеные, узорочные; позументы, бахромки, плетежки, галуны и кисти, покрывала, накидки, шали, палантины. И вдобавок ткани жили и дышали, колыхаясь, как сладострастные восточные танцовщицы.
В сей ландшафт, который Роберт не умеет описать, видя такое впервые и не помня слов для похожих зрелищ, врывались сонмы существ, их-то он опознать был способен, приравнявши к чему-то виденному. Эти существа были рыбы, и, снуя, они пересекались, как белые пути падучих звезд августовской ночью, но подбор и сочетание чешуи показывали, сколько в природе имеется окрасок и сколько их может присутствовать одновременно на едином фоне.
Бороздчатые, дорожчатые, с полосами то вдоль, то впоперечь, а то наискосок или волнистыми; чубарые, как инкрустированные, с прихотливо разбросанными пятнами, пестрые, рябые, многоцветные, разномастные, одни кольчатые, а другие крапчатые или разубранные прожилками, напоминающими пластины мрамора. Были рыбы с рисунком аспидовым, были цепями оплетенные, были усыпанные глазурями, в горошек были и в звездочку; наикрасивейшая опутана тесемками, с одного бока винного колера, а с другого сливочного; чудо было наблюдать, как тесьма искусно перевертывалась и укладывалась новыми рядами, и без сбоев, дело рук изощренного мастера.
Только рассмотревши рыб, он мог различать коралловые тела, при начале ему невнятные: и грозди бананов, и корзины с выпеченными хлебами, и плетенки с бронзовеющими ягодами, на которые слетались канарейки, сползались ящерки, садились колибри.
Роберт парил над садом, нет, не совсем над садом, над каменного рощею, где стояли окостеневшие грибы столбами, нет, не совсем, он витал над горою, ущелием, балкой, над откосом, пещерой, над отлогими долами одушевленных глыб, на которых неземная растительность создавала побеги сплющенные, скругленные, блестчатые, с зернистыми изломами, как гранит, или узловатые, или ссученные. Но при всех различиях побеги были необычайны по изяществу и миловзорности и столь изрядны, что даже те, которые сработаны с притворной небрежностью, аляповато, топорно, отличались величием и показывались пусть уродами, но уродами прелести.
А может быть (Роберт то и дело черкает, поправляет, не умеет определить, пасует перед задачей: поди перескажи округлый квадрат, крутую пологость, суматошную тишину, полуночную радугу), он попал в каменоломню киновари?
Или от стесненных легких у него в голове помутилось, и вода, затекавшая в маску, переиначила контуры, обновила цвет? Он высунул голову за воздухом и опять распростерся над закраиной обрыва, исследуя разломы природы, глинистые коридоры, куда юркали виноцветные рыбы-пульчинеллы и сразу под скатом брезжил в огнецветной люльке, вздыхая и поводя клешнями, молочно-белый хохлатый рак, а сама сетка была выкручена из нитей, перевитых, будто косы чеснока.
Затем он воззрился на то, что не было рыбой и не было водорослью, на что-то живое, на мясное, вздутое, бледное, разваленное на половины, чьи закраины рдели, а навершием служил веерный султан. Там, где полагалось глядеть глазам, торчали сургучные подвижные жужжальца. Полипы тигровой окраски, в липучем пресмыкании вывертывая плотскость крупной срединной губы, терлись о голые тулова голотурий, каждое из которых — белесый хлуп с амарантовыми ядрами; рыбешки, медно-розовые под оливковой муругостью, выклевывали в пепельного цвета кочанах пунцовые бисерины и отщипывали крохи от клубней, леопардовых по масти, испеженных чернильными наростами.
Ознакомительная версия.