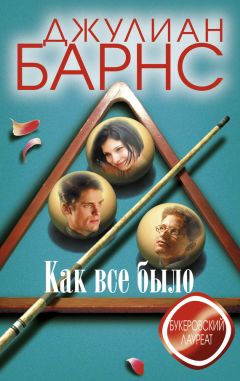Итак, это и есть мораль книги? История уязвленной гордости? И вновь братья Таро нас удивляют. В некоем лондонском мюзик-холле Дингли смотрит кинохронику войны в Южной Африке. Многие эпизоды ему знакомы не понаслышке, включая сцену расстрела Люка дю Туа. Восторженная реакция аудитории наводит его на мысль, что он, отказав в помощи и сострадании пленному буру, обнаружил те же настроения, что и британская публика. И тут Дингли понимает, что должен сделать: написать роман на достаточно банальную, но верную тему — о том, как война делает жалкого кокни настоящим мужчиной. Опубликованный одновременно с провозглашением мира, когда женщины в Ист-Энде отплясывали жигу «в непристойных порывах патриотизма», роман имел «колоссальный успех». Ни в одной из своих предыдущих книг «Знаменитый Писатель не выразил с большей гордостью эгоцентризм родной страны».
Таким образом, роман этот является одновременно и критикой британского империализма — его жестокости, зверств и самообмана, — и предостережением против литературного популизма. Но он вполне подходит под определение романа о человеческой несостоятельности, о том, какой ценой (и какими общественными благами) оплачивается подавление души. Вряд ли Киплинг не слышал о «Дингли»; столь же маловероятно (не в последнюю очередь — из-за смерти Арчи), что он стал его читать. Похоже, он не оставил письменных указаний на этот роман ни в частной переписке, ни в опубликованных вещах; будь он персонажем моего романа, я бы представил, что его ответом на такую галльскую дерзость стало молчаливое презрение.
Роман «Дингли, знаменитый писатель» был первым и, вероятно, самым громким успехом братьев Таро; в течение полувека они продолжали свое родственное сотрудничество в промышленном масштабе, в списке их произведений — более семидесяти пунктов. В 1938 году Жерома приняли во Французскую академию после длительных прений по истинно французскому в своей сути вопросу: имеет ли право половина автора занимать целое место. Проблема была решена — или стала в два раза запутаннее, — когда в 1946 году «под куполом Академии» к Жерому присоединился Жан. Судя по «Дингли», братья были энергичными и убедительными рассказчиками, которые, помимо всего прочего, показали, что Киплинг, или его версия, или его частица и в самом деле заслуживает художественного отображения. Андре Жид вернулся к теме братьев Таро в своем дневнике 12 июля 1921 года, предположив, что в соавторстве заключалась их сила и одновременно слабость: «Все, прочитанное мною у братьев Таро, отвечает, по-моему, самым высоким меркам; полагаю, их книги можно упрекнуть лишь в одном: создание их никогда не диктуется внутренней потребностью; они лишены той глубинной и необходимой связи с автором, залогом которой служит сама судьба».
Жан умер в 1952-м, Жером — через год после него. Кресло Жерома в Академии под номером тридцать один занял ультрамодный тогда Жан Кокто, который, пренебрегая традиционными правилами вежливости, постарался говорить о своем предшественнике «как можно меньше», предпочтя вместо этого отдать «дань благодарности» Академии. А «отдать дань уважения Таро», от чего уклонился Кокто, пришлось Андре Моруа, произносившему официальную приветственную речь в честь нового академика. Еще через полвека потеряла изрядную долю своего блеска и стрекозья слава самого Кокто. Если возрождение былой известности самих братьев Таро маловероятно, то их «Дингли» — не просто курьез, но серьезный и яркий роман — проживет, по крайней мере, «один короткий миг», который имел в виду Киплинг.
Камю считал его самым поучительным из моралистов, стоящим выше Ларошфуко; его боготворили Ницше и Джон Стюарт Милль; его читал Пушкин, позволяя Евгению Онегину делать то же самое; его имя в дневниках Стендаля и Гонкуров овеяно восхищением; Сирил Коннолли, еще один меланхоличный эпикуреец с пристрастием к афоризмам, приводит развернутую цитату из него в «Неспокойной могиле». Но при этом в Великобритании Николя-Себастьен Рош де Шамфор (1741–1794) остается практически безвестным.
Виной тому отчасти наше островное равнодушие к переводам: последнее британское издание вышло, насколько можно судить, в издательстве «Golden Cockerel Press» (тираж — 550 экземпляров) в 1926 году. Но возможно, что виной тому еще и тот жанр, в котором Шамфор создал единственное сочинение, пережившее свое время: «Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. Краткие философские диалоги». Нам, жителям островов, не особенно близки маленькие книжечки мудрых мыслей. Мы не против застольной беседы или глубоких замечаний, позаимствованных у босуэлловского Джонсона, а еще лучше — из романов («Все знают, что молодой человек…»). Но сама мысль, что можно взять наблюдение социального или нравственного толка, придать ему литературную огранку и продемонстрировать на отдельной белой странице, как ювелир демонстрирует сверкающую драгоценность на черном бархате, вызывает у нас легкое подозрение. В одних руках блеск будет аристократически надменным; в других — просто фальшивым.
Возьмем три знаменитых изречения: называйте их максимами, эпиграммами, апофтегмами — как угодно. Коннолли: «В каждом толстом человеке заточен худой, отчаянно желающий выбраться наружу». Припомните известных вам толстяков. В каждом? Отчаянно? Речь идет не о программе снижения веса. Относится ли эта сентенция в такой формулировке к большому числу людей, а не только к тучному Коннолли? Уайльд: «Работа — проклятие пьющего класса». С легкостью и шиком перевернутое популярное изречение. Но справедливое ли? Хоть в чем-нибудь? Или же, напоследок, броское жонглирование словами, столь же несостоятельное, сколь и высокомерное. Ларошфуко: «Мало кто влюблялся бы, если бы раньше не слышал о любви». Претендует на внушительность и авторитетность. Но в конечно счете справедливо? Каждый из нас может припомнить человека, влюбившегося «не по той причине» или, с нашей точки зрения, утверждающего, что любит, хотя это не соответствует действительности; но ведь у Ларошфуко говорится не о том. Опять же, при слишком широких обобщениях возникают разнотолки. Жизнь, как можно заключить, редко укладывается в одну строчку.
Шамфор не таков. Камю разграничивает автора максим и моралиста. Максима подобна математическому уравнению — его члены часто допускают перестановку, и не случайно один и тот же век — семнадцатый — ознаменовался во Франции расцветом математики и максим. Но «вся истина заключена внутри себя и соответствует опыту не более чем алгебраическая формула». Однако хватит с нас Ларошфуко. А вот моралист, подобный Шамфору, редко изъясняется максимами, редко прибегает к антитезам и формулам. Он не создан для «Цитаты недели». Как написали в своем дневнике братья Гонкуры в 1866 году, «Шамфор далеко отстоит от литератора, фиксирующего свои размышления. Он предлагает нам концентрированное понимание мира, горький эликсир опыта».
Шамфор был незаконнорожденным; он появился на свет в Оверне; ум, остроумие, обаяние и приятная внешность — все это позволило ему занять высокое положение во французском свете. Он дружил с Талейраном, Даламбером и Гельвецием; Мирабо отмечал, что у него «электрическая» голова: потрешь — и заискрится идеями. Его принимали в интеллектуальных салонах и избрали членом Академии; Людовик XV назначил ему содержание за посредственную пьесу, которая выжала королевскую слезу. Такой непосредственный и очевидный успех удовлетворил бы человека нормальных амбиций; но Шамфор был слишком умен — или слишком горд, или слишком самокритичен, — чтобы довольствоваться чем-либо столь примитивным, как удовлетворение, а тем более счастье. Его успех указывал лишь на его внутренние противоречия, равно как и на противоречия в обществе, которое ему рукоплескало. Вот его автопортрет («Размышление 2»):
Вся моя жизнь — это открытое столкновение моих принципов: я не люблю монархию — и служу принцу с принцессой. Я широко известен своими республиканскими убеждениями — и вожу дружбу с аристократами, увешанными монархическими наградами. Я предпочел быть бедным и доволен этим, но провожу время с богатыми. Я презираю почести, но когда мне их предлагают, я порой не отказываюсь. Едва ли не единственное мое утешение — это литература, но я нечасто езжу к ярким, остроумным людям, равно как и не посещаю заседания Французской академии. Более того, я полагаю, что людям нужны иллюзии, но сам их лишен. Я считаю, что страсть может дать больше, чем разум, — но более не испытываю никаких страстей. В действительности перечень этот бесконечен.
Этот критический список, приведенный до половины, отчасти и делает Шамфора притягательным, человечным, современным. В своем порицании человеческих мотивов он своей беспощадностью и сарказмом подчас равняется с Ларошфуко. Но когда Ларошфуко выдвигает систему, при которой импульсом для всех человеческих поступков служит своекорыстие, подразумевается, что к самому Ларошфуко это обвинение почему-то неприменимо; он стоит выше той нравственной шелухи, которую анатомирует. Шамфор не таков в главном: его порицание человечества включает и его самого, причем совершенно явно. «Судя по мне, человек — глупое животное». Кроме того, мудрость для него вырастает из познания слабостей, неудач и бедствий, а не силы и богатства. «Мне кажется, что из двух равно проницательных и умных людей тот, что рожден в богатстве, никогда не познает природу, общество и человеческое сердце так же глубоко, как тот, что рожден в бедности». Суть в том, что богач предается наслаждениям, а бедняк утешается мыслями. Шамфор был бедняком лишь в сравнении с теми, с кем общался; у настоящих бедняков обычно нет ни времени, ни сил «утешаться мыслями». Но он знал, что означает клеймо незаконнорожденного; он страдал неким обезображивающим недугом (кто называет сифилис, кто проказу, кто слоновую болезнь, но современная точка зрения склоняется к гранулематозу); а его любовный опыт был заурядным. Прожив беспутным холостяком, а временами и женоненавистником до почтенного сорокалетнего возраста, он вдруг до безумия влюбился в жену некоего врача, и та ответила ему взаимностью. По счастью, она вскоре овдовела, после чего пара перебралась в деревню, поближе к обывательской пасторальной идиллии. Через полгода его возлюбленная умерла.