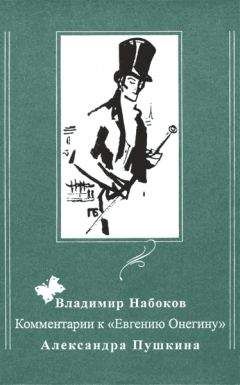Ж. Б. Л. Грессе «Вер-вер» (1734; поэма — весьма нравившаяся Пушкину — в четырех небольших песнях, об изменнике-попугае, который был любимцем монахинь): «Au printemps de ses jours / L'essaim des folâtre amours…»[19]. <«B его вешние дни / Рой игривых страстей..»>.
Пушкин, не говоря о младших его собратьях по перу, годами не мог избавиться от этих Обид, Очарований и Страстей, от этих сонмов купидонов, явившихся из своих фарфоровых ульев Запада восемнадцатого века. Грессе был одаренным поэтом, но средства его выражения были те же, что и у всего «роя» «игривых» поэтов его времени.
Юрий Тынянов («Пушкин и Кюхельбекер», очерк, который следует воспринимать с известной осторожностью, в «Лит. наследстве», т. 16–18 (1934), с. 321–78) полагает, что Пушкин впервые прочитал Грессе в 1815 г., когда мать Кюхельбекера прислала два тома этого поэта своему сыну, товарищу Пушкина по Лицею.
Кстати, вариации в написании имени попугая Грессе <«Vert-vert»> оказались забавны. Мой экземпляр имеет следующее название: «Сочинения Грессе, украшенные критикой Vair-vert <„Зеленого горностая“>, Комедия в 1-м действии» (Амстердам, 1748). В указателе содержания — название «Vert-Vert» <«Зеленый-зеленый»> на шмуцтитуле (с. 9) и в самом стихотворении «Ver-Vert» <«Зеленый червь»>, а в критике — в форме комедии, приложенной к тому, — «Vairvert».
9 Эльвинси Я полагаю — это внебрачное дитя макферсоновой Мальвины, что случается во французских переводах поэмы Оссиана (например, «Elvina, prêtresse de Vesta» <«Эльвина, жрица Весты»> Филодора P., «Almanach des Grâces» [1804], с. 129).
11–12; XXXIII, 1–4. В последних строках строфы XXXII, после того как поэт обращается к милым ножкам под длинной скатертью столов, имеет место тот редкий случай, когда ряд нескольких (именно четырех) строк со скольжением на второй стопе выполняет роль тормоза, внезапной остановки, сохраняющего импульс замедления перед рывком Быстрой и Быстрого Течения строк в следующей строфе <см. «Заметки о стихосложении»>. Более того, далее в строфе идут четыре строки со скольжением на первой стопе — очень редкий случай.
Я помню море предъ грозою:
Какъ я завидовалъ волнамъ,
Бѣгущимъ бурной чередою
4 Съ любовью лечь къ ея ногамъ!
Какъ я желалъ тогда съ волнами
Коснуться милыхъ ногъ устами!
Нѣтъ, никогда средь пылкихъ дней
8 Кипящей младости моей
Я не желалъ съ такимъ мученьемъ
Лобзать уста младыхъ Армидъ,
Иль розы пламенныхъ ланитъ,
12 Иль перси, полныя томленьемъ;
Нѣтъ, никогда порывъ страстей
Такъ не терзалъ души моей!
Поиски реальной обладательницы ножки, к которой подошел бы хрустальный башмачок этой строфы, стали для многих пушкинистов испытанием на находчивость либо обнаружили их наивность. Назывались и горячо отстаивались имена, по крайней мере, четырех «претенденток». Рассмотрим для начала наиболее вероятную «кандидатку» — Марию Раевскую.
В последнюю неделю мая 1820 г. осуществился славный план, задуманный, по крайней мере, за месяц прежде. Генерал Николай Раевский, герой наполеоновских войн, путешествуя с одним из двух своих сыновей и двумя из четырех дочерей из Киева в Пятигорск (Сев. Кавказ), проезжал через Екатеринослав (ныне Днепропетровск) и подобрал Пушкина, высланного туда двумя неделями ранее из С.-Петербурга в распоряжение канцелярии другого благосклонного к нему генерала, Ивана Инзова. Компания генерала Раевского состояла из его сына Николая, близкого друга Пушкина; маленькой Марии тринадцати с половиной лет; маленькой Софьи двенадцати лет; русской няньки, английской гувернантки (мисс Маттен), компаньонки-татарки (таинственной Анны, о коей ниже), врача (д-ра Рудыковского) и французского гувернера (Фурнье). Старший сын Александр, с которым Пушкин еще не был знаком, ждал путешественников в Пятигорске, в то время как г-жа Раевская с двумя старшими дочерьми (Екатериной и Еленой) готовились приветствовать всю компанию в августе в Гурзуфе (Южный Крым).
Уже в самом начале пути от Екатеринослава к Таганрогу наш поэт легко избавился от лихорадки, приставшей к нему на Днепре. Однажды утром 30 мая, между Самбеком и Таганрогом, пять сидевших в одной из двух огромных карет-дормезов, а именно — две девочки, старая нянька, гувернантка и компаньонка, — увидели справа белые барашки морских волн и высыпали из кареты, чтобы полюбоваться на прибой. Юный Пушкин неспешно вышел из коляски, ехавшей третьей.
В своих в высшей степени банальных и наивных мемуарах («Mémoires de la Princesse Marie Volkonsky», «с предисловием и приложениями издателя князя Михаила Волконского», С.-Петербург, 1904) урожденная Мария Раевская так описывает (с. 19), лет двадцать спустя, эту сцену:
«Не подозревая, что поэт шел за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала; под конец у меня вымокли ноги… Пушкин нашел эту картину такой красивой, что воспел ее в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость[20]: мне было только пятнадцать лет».
Последнее утверждение, конечно, неверно: Марии Раевской было только тринадцать с половиной: она родилась 25 дек. 1806 г. по ст. ст. (см.: А. Веневитинов, «Русская старина», XII [1875], 822); умерла она 10 авг. (ст. ст.?) 1863 г. («в возрасте 56 лет»; см. предисловие М. Волконского к «Mémoires», с. X).
После лета, проведенного на кавказских водах, где Пушкин подпал под циничное обаяние Александра Раевского, наши путешественники, оставив Александра на Кавказе, перебрались в Крым и на рассвете 19 авг. 1820 г. достигли Гурзуфа. В течение последующих четырех лет Пушкин временами видел Марию Раевскую. Комментатор, разумеется, не должен забывать о рисунках нашего поэта на полях рукописей; так, на черновике главы Второй, IXa против строк 6–14, где сказано, что Ленский «не славил сети сладострастья / Постыдной негою дыша / Как тот чья жадная душа /…Преследует…/ Картины Прежних наслаждений / И свету в песнях роковых / Безумно обнажает их», Пушкин в конце октября или начале ноября 1823 г. в Одессе нарисовал пером профиль женщины в чепце, в которой легко признать Марию Раевскую (теперь почти семнадцати лет); над ним он набросал свою собственную, в то время коротко остриженную, голову[21]. Если строфа XXXIII главы Первой относится все-таки именно к этим ласкаемым волнами ножкам, то воспоминание, действительно, «дышит негою» и выдает «прежние наслаждения» (рисунки, изображающие Марию Раевскую, находятся в тетради 2369, л. 26 об., 27 об., 28 и 30 об.).
Она вышла замуж восемнадцати лет (январь 1825 г.). Ее муж, князь Сергей Волконский, известный декабрист «Южного общества», был арестован после поражения петербургского восстания 14 дек. 1825 г. Отважная юная его жена последовала за ним в далекую сибирскую ссылку, где — довольно банально — влюбилась в другого мужчину, тоже декабриста. Героическая сторона ее жизни была воспета Некрасовым в длинной, неровной и недостойной его истинного таланта ужасающе посредственной поэме «Русские женщины» (1873; в рукописи — «Декабристки»), которая всегда пользовалась успехом у тех читателей, которых более интересовала социальная направленность, нежели художественное исполнение. Единственное, что мне когда-либо нравилось в этой поэме, это — строки из другой, более мелодичной ее части, — там, где описывается досуг декабристов:
Коллекцию бабочек, флору Читы
И виды страны той суровой…
После ноября 1823 г. Пушкин снова видел ее 26 дек. 1826 г. в Москве (в доме княгини Зинаиды Волконской, ее золовки) накануне отъезда к мужу в Сибирь за 4000 миль в Нерчинск, на Благодатский рудник. В Малинниках Тверской губернии 27 окт. 1828 г. Пушкин написал знаменитое посвящение к своей поэме «Полтава» (шестнадцать строк четырехстопного ямба с рифмой abab), которое, как полагают, обращено к Марии Волконской:
Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, не признанное вновь?
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.
В черновике и беловой рукописи над этим стоят слова, написанные по-английски: «I love this sweet name» <«Я люблю это нежное имя»> (героиню «Полтавы» зовут Мария). Хотелось бы собственными глазами взглянуть на этот черновик (тетрадь 2371, л. 70), где зачеркнутый вариант строки 13, говорят, читается (см.: Бонда, Акад. 1948, V, 324):