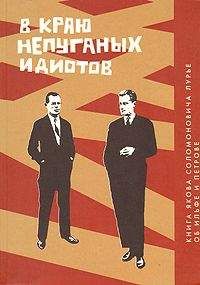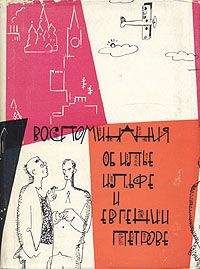Тема бюрократии может считаться, пожалуй, одной из важнейших, если не самой важной темой творчества Ильфа и Петрова. Она возникает уже в «Двенадцати стульях», где описывается огромный Дом народов, сосредоточивший в себе множество ведомств и изданий (Дворец Труда на Солянке, где помещались ВЦСПС и газета «Гудок», названная в романе «Станком»). Специально этой теме был посвящен цикл «1001 день, или Новая Шехерезада», ряд рассказов и фельетонов, написанных в самые различные годы.
В чем же сущность проблемы бюрократии у Ильфа и Петрова? Начиная с 1920-х гг. слово «бюрократия» пережило в русском языке любопытную эволюцию. По своему смыслу это франко-греческое словообразование аналогично другим терминам того же типа: «аристократия»— власть знатных, «плутократия»— власть богатых, «бюрократия»— власть «бюро», канцелярии, чиновников. Так его толковали русские словари вплоть до 1930-х гг. — времени появления «Золотого теленка». «Бюрократия» в словаре Ушакова (1933) — это, прежде всего, «система управления, в которой власть принадлежит чиновникам (бюрократам) без всякого сообразования с реальными интересами масс», и лишь в последнюю очередь — «забота о формальностях… в ущерб сущности дела». После 1930-х гг. словари перестраиваются. В них появляется та диалектика, которая помогает справиться и с многими другими трудными словами. Одно дело бюрократия в «буржуазных государствах» и «классовом обществе» — там это «система управления чиновничьей администрации», «привилегированный слой господствующего класса эксплуататоров», и совсем иное у нас: здесь существует не бюрократия, а «бюрократизм», «формальное отношение к служебному делу», «Пренебрежение к существу дела ради соблюдения формальностей»[166].
Ильф и Петров были свидетелями этих семантических сдвигов и стоявших за ними событий. Накануне Октября Ленин объявлял уничтожение старой государственной машины главной задачей революции; в своих последних статьях он признавал, что советский аппарат «в наибольшей степени представляет собой пережиток старого», что дела здесь «печальны, чтобы не сказать отвратительны», и что советское государство есть государство рабочее, но с бюрократическими извращениями. Задуманные Лениным органы контроля сверху явно не достигали цели; при отсутствии подлинной гласности и выборности приходилось прибегать к таким формам «непосредственной демократии», как чистка партии и советского аппарата. Чистки эти должны были происходить открыто, с тем чтобы каждый мог уличить проверяемого чиновника не только в том, что у него «родители не в порядке», но и в том, что он бюрократ, бездельник или мошенник. Что из этого выходило, лучше всего показали Ильф и Петров в небольшом фельетоне «Душа вон», опубликованном под псевдонимом Коперник[167]. Они сравнивали поведение публики при чистке с поведением толпы, наблюдающей уличную Драку.
То, что вы отмежевались от своих родителей, мне известно, — говорит председатель комиссии, — и это не так важно. Расскажите нам, как вы работаете…
— Что же вы молчите, товарищи? — кричит председатель, обращаясь к толпе. — Разве вы не знаете, что это бюрократ?
Толпа отлично знает. Но молчит. На всякий случай. Мало-помалу все расходятся. Бюрократ остается на службе…
По первоначальному варианту вторая часть «Золотого теленка» должна была начинаться с того, что Бендер и Балаганов «попадают на чистку. Чистится ангельский гражданин. Оказывается — Корейко…»[168]. И действительно. Корейко едва ли мог бояться чистки. В его социальном происхождении не было явных дефектов — он не был сыном графа или служителя культа. А о скрытых делах Александра Ивановича не стали бы говорить ни его высокопоставленные контрагенты — глава «Геркулеса» Полыхаев и Скумбриевич, ни напуганный бухгалтер Берлага. В последних главах «Золотого теленка» вновь появляется тема чистки: Скумбриевича разоблачают как бывшего совладельца торгового дома «Скумбриевич и сын». Но о мошеннических делах его и Полыхаева нет и речи, и нет никаких оснований верить, что в самой системе деятельности «Геркулеса» что-нибудь изменится.
Чем более монолитной становилась политическая власть, тем менее реальным оказывался контроль снизу— борьба со всевластием чиновников. Слишком резкие выступления против «проклятых бюрократов» вызывали подозрение в сочувствии недавно разгромленной левой оппозиции, считавшей именно «аппаратчиков» главными врагами революции. Когда Маяковский опубликовал пьесу «Баня», рапповскому критику В. Ермилову сразу же послышалась в ней «очень фальшивая «левая» нота, уже знакомая нам — не по художественной литературе». «Нестерпимо фальшивым» представлялось Ермилову то обстоятельство, что крупный начальник Победоносиков, человек «с боевым большевистским прошлым», оказывался у Маяковского «хамом», «мерзавцем» и мог даже провоцировать «жену на самоубийство»[169]. Ответить Ермилову Маяковский не смог (стихотворная листовка против Ермилова, которую Маяковский предполагал выпустить во время постановки пьесы в театре Мейерхольда, не была разрешена), и история эта произвела на поэта столь сильное впечатление, что он не забыл о ней в последние минуты жизни, выразив в своей предсмертной записке сожаление, что не смог «доругаться» с Ермиловым[170].
Серьезные разговоры о бюрократии как об опасной общественной силе сменялись в печатных органах, где работали Ильф и Петров, дидактическими поучениями и «юморесками» против «бюрократизма», против неких комических фигур, украшенных торчащими из карманов авторучками и пренебрегающих «интересами дела». На первый взгляд, может показаться, что и в «Золотом теленке» речь идет о «бюрократизме» в новом, установившемся с 1930-х гг. смысле этого слова: о плохой работе учреждений, медлительности, волоките, отдельных злоупотреблениях. Действительно, Полыхаев и Скумбриевич принадлежат к тому виду ответственных работников, которых невозможно застать на месте: «они только что здесь были» и «минуту назад вышли»; немецкий специалист, выписанный из-за границы, изнемогает от отсутствия работы и не может поймать Полыхаева. «Бюрократизмус! — кричал немец, в ажитации переходя на трудный русский язык…»
Это и вправду русский язык, русское понимание международного термина, установившееся в те годы. Слово «бюрократизм» так же обрусело, как до него другое иностранное по происхождению слово — интеллигенция. Ильф и Петров отлично понимали и специфический смысл такой трактовки бюрократизма, и подлинную ценность тех мер, которые предлагались для борьбы с ним:
Остап молча взял европейского гостя за руку, подвел его к висевшему на стене ящику для жалоб и сказал, как глухому:
— Сюда! Понимаете? В ящик. Шрайбен, шриб, гешрибен. Писать. Понимаете? Я пишу, ты пишешь, он пишет, она, оно пишет. Понимаете? Мы, вы, они, оне пишут жалобы и кладут в сей ящик. Класть! Глагол класть. Мы, вы, они, оне кладут жалобы… И никто их не вынимает. Вынимать! Я не вынимаю, ты не вынимаешь… (Т. 2. С. 215).
— Что за банальный, опротивевший всем бюрократизм! — говорит Остап, противопоставляя «Геркулесу» собственное учреждение. — В нашем Черноморском отделении есть свои слабые стороны… но такого, как в «Геркулесе»… (Там же. С. 211).
Ну, а если бы бюрократизм Полыхаева не был «банальным»? Если бы он исправно посещал свой рабочий кабинет? Ильф и Петров дали ответ на этот вопрос. Они предусмотрели вариант, при котором Полыхаев мог отбиться от «категории работников, которые «только что вышли», и примкнуть к влиятельной группе «затворников», которые обычно проникают в свои кабинеты рано утром, выключают телефон и, отгородившись таким образом от всего мира, сочиняют разнообразнейшие доклады» (Там же. С. 219). Читатель отлично понимает, что и при таком варианте работа Полыхаева и всего возглавляемого им учреждения не принесла бы ни малейшей пользы остальному миру. Реальное производство, куда в конце концов Полыхаев отправляет жаждущего работы немецкого специалиста (немец с изумлением пишет невесте, что в «Геркулесе» это считается наказанием и называется «sagnat w butilku!»), как и темные дела Полыхаева и Скумбриевича, — это только индивидуальные и случайные дополнения к основной деятельности «Геркулеса». Подлинное его дело — борьба за занимаемое помещение и обеспечение жизненных благ для своих ответственных, полуответственных и мелких сотрудников. От конторы «Рога и Копыта», созданной Остапом для легализации собственной деятельности, «Геркулес» отличается только «банальным» бюрократизмом и размерами, такими, которые впоследствии приобретет преображенное «детище Остапа»— «Гособъединение Рога и Копыта».