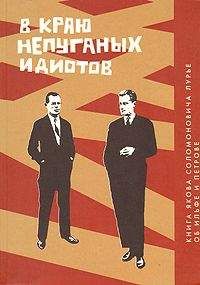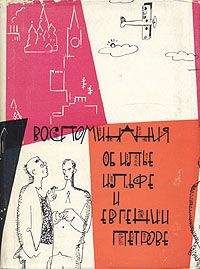Социализм был провозглашен, но знаменитая впоследствии теория обострения классовой борьбы при социализме еще не существовала — ей предстояло появиться лишь три года спустя. В этой обстановке усиление дозволенной самокритики, осуждение отдельных лиц, явлений и учреждений, нарушающих гармонию наилучшего из всех возможных обществ, приобретали особое значение.
Такая задача ставилась перед писателями и на Первом всесоюзном съезде 1934 г., ставшем кульминационным моментом единения творческой интеллигенции с партийным руководством. Именно на этом съезде Олеша заявил, что к нему «вернулась молодость», ибо «люди, которые строили заводы, герои строительства, те, которые коллективизировали деревню, создали государство, социалистическую страну, родину». После этого заявления Юрию Карловичу была оказана высокая честь — поручено огласить приветствие съезда Центральному Комитету партии.[187] Другой беспартийный деятель литературы, автор еще не законченного, но уже популярного романа «Капитальный ремонт» Л. Соболев, стяжал еще больший успех, заявив: «Партия и правительство дали нашему писателю решительно все. Они отняли у него только одно — право плохо писать…»[188]
Но первый съезд писателей вовсе не был сплошной идиллией. Как раз на этом съезде, в основополагающем докладе Горького, был провозглашен новый, обязательный для советской литературы метод — «социалистический реализм». Сурово осуждались писатели, чуждые советской идеологии. М. Булгаков упоминался исключительно в отрицательном контексте (доклад В. Кирпотина о драматургии, выступление Н. Погодина)[189].
Отнюдь не были фаворитами съезда и Ильф с Петровым. Напомнив о том, как он защищал обоих сатириков от «покойной РАПП», Михаил Кольцов не упустил случая сделать им дружеское внушение: «Книги «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» имели большой и заслуженный успех в нашей стране и за границей. Но в этих двух романах сатириками отражена почти исключительно потребительская сторона советской жизни. Но Ильф и Петров не проникли еще со своей сатирой в сферу производства, т. е. в ту сферу, где советские люди проводят значительную часть своей жизни…»[190]
Итак, двум сатирикам давалось вполне определенное задание — бичуя порок, рисовать в противовес ему настоящую, светлую жизнь, сосредоточенную в сфере социалистического производства. Но готовы ли они были выполнить это задание?
В отличие от «Миши» — Булгакова, Ильф и Петров были согласны не только на крестьянскую реформу 1861 г., но и на социализм. Однако представление об этой общественной системе, существовавшее у них до конца 1920-х гг., всерьез отличалось от той реальности, которая вложилась в 1933–1934 гг. Как и большинство людей XIX и первой трети XX в., проявлявших интерес к идее социализма, Ильф и Петров подразумевали под этим словом такой строй, при котором не только не будет частной собственности, но вместе с тем «вмешательство государственной власти в общественные отношения становится мало-помалу излишним и само собой засыпает»[191]. Социалистический строй рассматривался как наиболее свободный из всех общественных укладов, известных человечеству; с ним несовместимы такие явления, как цензура («призрачны все свободы, если нет свободы печати…»)[192], существование денег и материального неравенства, социальные привилегии, уголовные преступления, тюрьмы. Но возможно ли достигнуть таких благ и свободе одной, сравнительно отсталой стране, окруженной враждебным капиталистическим миром?
Именно этот вопрос был важнейшим предметом межпартийных дискуссий 1920-х гг. — споров о возможности построения социализма в одной стране — Советском Союзе— и о путях такого построения. Ильф и Петров, несомненно, были в курсе теоретических дискуссий и внутрипартийной борьбы тех лет. Беспартийные служащие, умоляющие своего партийного начальника «не вдаваться в уклон», — тема, несколько раз возникавшая в их сочинениях в «годы великого перелома».
…История безжалостно ломает всех несогласных с нею… Чувствуешь себя каким-то изгоем. И надо вам сказать всю правду. Вы меня извините, товарищ Избаченков, но нет пророка в своем отечестве, ей-богу, нет пророка… Товарищ Избаченков, не будьте пророком!.. Берегите свою партийную репутацию…[193] — заклинают подчиненные.
История партийных дискуссий тех лет выходит за пределы нашей работы. Отметим только, что до начала 1930-х гг. даже вполне советским интеллигентам была чужда мысль, будто социализм будет построен в СССР в ближайшие несколько лет. У Маяковского в «Клопе» пьяный Присыпкин засыпает и замерзает на 50 лет, а когда его размораживают, он просыпается в новом обществе, совсем не похожем на старое. Что же это за общество? Здесь (как и в другом утопическом мире будущего, вестником которого служит фосфорическая женщина в «Бане») нет уже бюрократизма, пьянства, самоубийств из-за несчастной любви и т. д. Советская власть охватывает все части света, если не весь мир: упоминаются официальные органы печати — «Известия Чикагского совета», «Римская красная газета», «Шанхайская беднота», «Мадридская батрачка», «Кабульский пионер», не говоря уже о «Варшавской комсомольской правде»[194]. Но Маяковский все-таки не считал, что это — социалистическое общество. «В пьесе — не социализм, а десять пятилеток, а может быть, это будет и через три пятилетки. Конечно, я не показываю социалистическое общество»[195]. Сперва мировая революция, а потом уже социализм; такая точка зрения имела на официальном партийном языке того времени вполне определенное название, и В. Ермилов недаром обвинил Маяковского (говоря о другой его пьесе — «Баня») в «очень фальшивой «левой» ноте, уже знакомой нам — не по художественной литературе».
Высказывался и другой взгляд, возобладавший в 1927 г., согласно которому «если абстрагироваться от международной обстановки», то социализм может быть построен и в одном СССР до мировой революции — «полностью, но не окончательно» (без гарантии против возможной внешней интервенции)[196]. Но если в 1927-м такая точка зрения предполагала, что русский рабочий класс, сомкнувшись с трудовым крестьянством, начнет медленное движение к социализму, то в «год великого перелома» «медленное движение» совместно с крестьянами было заменено «революцией сверху» — ссылкой миллионов «кулаков» и «подкулачников», приведшей к быстрой и всеобщей коллективизации. В основу был положен принцип волевого решения всех проблем, целенаправленного энтузиазма: «Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики»[197].
Свое отношение к самой идее такого целенаправленного энтузиазма Ильф и Петров выразили достаточно определенно — в рассказе («сказочке») Остапа Бендера «О кошках и тракторах, или О том, как в городе настал рай», предназначенном для «Золотого теленка» («Великого комбинатора»), но не опубликованном при жизни писателей. По типу этот рассказ сходен с теми вставными новеллами, которые рассказывают австрийский корреспондент Гейнрих и сам Остап в ходе споров о социализме в литерном поезде, направляющемся на Турксиб[198], хотя точное его место в будущем романе определить трудно. В городе, описанном Остапом, «жили, выражаясь вульгарно, идейные граждане. Они неутомимо маршировали в ногу с эпохой. Когда эти идеалисты узнали, что за две тысячи кошек можно купить трактор, они немедленно принялись за работу». Энтузиасты вылавливают всех кошек, но в результате в городе развелись мыши, «этот бич народного хозяйства». В городе появляются плакаты:
Пятилетка не пустяк,
помогай ей кажд и всяк,
призывающие ловить мышей. Граждане вылавливают всех мышей и снова меняют шкурки на трактор. Но заканчивается эта история (удивительным образом предвосхитившая известную борьбу с воробьями в другой социалистической стране тридцать лет спустя) тем, что с уничтожением мышей отпадает возможность благовидного объяснения того, почему «к концу хозяйственного года», как и в прошлые годы, «на складах местной кооперации не хватает продуктов на неисчислимые суммы». Перед идейными гражданами, стремившимися построить «рай» в своем городе, встает задача более сложная и даже более фантастическая, чем отлов всех кошек и мышей, — задача уничтожения воровства в собственном обществе[199]. «Рай» — «социализм»— метафора настолько обычная (да еще с сугубо характерными для годов «великого перелома» понятиями и реалиями — пятилетка, трактора), что если бы авторы включили ее в роман, они дали бы весьма убедительное подтверждение мнения тех критиков, которые считали смех Ильфа и Петрова «не нашим смехом». Но текст этот опубликован не был, и авторы считались в 1932–1934 гг. подающими надежды советскими писателями, от которых требовалось только одно: не ограничиваться мраком, а искать свет там, «где советские люди проводят значительную часть своей жизни», — на социалистической стройке, заводах или в колхозах.