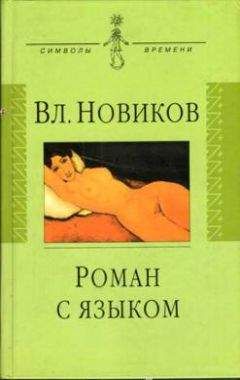Ознакомительная версия.
Давайте и мы попробуем полюбить носителей нашего родного языка и «беленькими», и «черненькими»! А уж потом соберемся в своем «беленьком» кругу и поговорим по самому строгому (к самим себе) счету.
2Ужасно крамольную мысль хочу сейчас высказать: меня совершенно не беспокоит косноязычие наших властителей. Более того, дежурные сарказмы по поводу очередных правительственных перлов кажутся уже порой проявлением истерического бессилия мыслящей части общества. Неужели непонятно, что эти комариные укусы только потешают адресатов наших смелых инвектив? Филологические обвинения — самые безопасные из всех возможных. И вот уже телевизионные «Куклы» теряют былую остроту: престарелый персонаж с постоянным «понимаешь» — это прямо-таки очередной дед Щукарь, простой, трогательно-народный и, конечно, без малейшего коварства. То же и его свита. Но маски ведь бывают не только пластические, но и речевые. И их весьма неглупые носители умеют приватизировать и перевести на счета родственников пару-тройку миллиардов (или хотя бы миллионов), а потом не без тонкого расчета придуряться, неся публично безграмотную невнятицу, чтобы снисходительные сограждане отвели душу и посмеялись: ну, какие там миллионы-миллиарды могут быть у такого недотепы!
И мы простодушно клюем на «обманку», меряя все на филологический аршин и по-прежнему полагая, что «в начале было Слово». Между тем в сфере житейской и хозяйственной прагматики гораздо уместнее выдвинутая у Гёте Фаустом позитивистская формула: «В начале было Дело». Если бы у наших правителей хватило совести не бомбить нефтепровод, чтобы потом не приниматься за его восстановление, — то пусть бы произносили «нефтепровод», мы бы им это простили. Если вдруг найдется государственный муж, который справится с бедностью и обнищанием народа, — то пусть себе неправильно ударяет «обеспечЕние»: поверьте, обеспеченные нормальной зарплатой и пенсией, мы просто не услышим, не заметим орфоэпического огреха.
Сама по себе речевая культура ничего не гарантирует: и Ленин, и многие члены большевистского правительства отлично владели русским устным и русским письменным. Нет, здесь не годится тоталитарный принцип: мол, кто говорит правильно и красиво — тот наш, а кто запинается, оговаривается, путается в словах и формах — тот нам не подходит. Предлагаю дифференцированный подход: будем терпимы к слабостям тех, для кого устная и письменная речь не является профессией, у кого есть какое-то дело помимо слова, — и одновременно будем предельно строги к тем, кто работает только языком (то есть к нашему брату филологу, литератору, журналисту). Предупреждаю, что много буду уделять внимания «мелочам», но убежден, что именно с них начинаются большие беды нашей словесности.
Богатый лингвистический материал дают телевизионные ток-шоу — сам термин в наших целях можно немножко переосмыслить: подобные передачи могут наглядно показать (show), кто и как умеет разговаривать (talk). В прежние времена (особенно в брежневские) литераторы выступали на телевидении во много-много раз чаще, чем теперь. Но что это были за выступления! На экране бубнили свой заранее заготовленный текст скованные и перепуганные, «зажатые» (как говорят в театре) субъекты. А наличие «зажима» в кадре — это брак, что всегда понимали телевизионщики и очень редко — наши с вами коллеги. Приведу единственный известный мне случай самокритичного отказа от съемки. В начале 80-х годов телевизионный редактор, с которой (да, приходится говорить и писать: «редактор, с которой», — а какой вариант вы предложите взамен?) мы делали передачи о Каверине и Шкловском, рассказала: пришел к ним сниматься Юрий Селезнев, руководитель серии «ЖЗЛ», старательно добивавшийся, чтобы в каждой книге было что-нибудь против «масонов» и сам написавший очень серый том о Достоевском. Проговорив перед камерой несколько минут, борец с масонством почувствовал, что получается плохо, встал и, не сказав ни «извините», ни «до свидания», навсегда удалился из «Останкина» (позвольте уж мне по-старинному склонять наши топонимы: душа не принимает формы «из «Останкино»», и статью эту я намереваюсь привезти в редакцию из Переделкина, но ни в коем случае не «из Переделкино»!).
Сейчас персональные писательские программы на ТВ не в ходу. Регулярно лишь «сладкоголосая птица нашей юности», гений пошлости Эдвард Радзинский произносит свои бесконечные монологи, удачно избегая идейных крайностей. Если же говорить о явлении писателя народу, об участии литератора в массовых «акциях», то тут есть интересный, он же единственный, случай — Мария Арбатова в «женском» ток-шоу «Я сама». Несколько передач этого цикла показались мне крайне занятными с речевой точки зрения. Так называемые «простые» люди отлично владеют языком. Своим языком. Не вдаваясь в метафизические прения, не щеголяя престижными именами, терминами и цитатами, старые и молодые участники обоего пола ясно и четко выражают свои взгляды (как правило, не навязывая их другим), коротко, без «эпического» занудства умеют рассказать свои семейно-любовные истории, находя для весьма интимных реалий вполне пристойные и в то же время не чопорно-ханжеские лексико-стилистические эквиваленты. Да и писательница-феминистка, когда она говорит «по-простому», отлично вписывается в демократичный ансамбль. Она даже может сбросить идейные цепи и совсем не «по-феминистически», а по-нашему, в духе нормальной коммунально-советской логики отчитать молодую женщину, соблазнившую семидесятилетнего профессора «ради карьеры и квартиры». Не вижу беды в такой милой непосредственности, поскольку для живого контакта лучше, чтобы все говорили на одном языке! Но вот Арбатова вспоминает о своей роли «эксперта» по феминизму и о своем писательском сане. Сразу пошли громоздкие синтаксические конструкции, пространные поучения, обрывы мысли, в которые — почти в каждой фразе — вставляется спасительное «как бы». «Как бы» — словечко-паразит, обитающее исключительно в интеллигентских языковых организмах. Это вам не простонародное «бля» («блин»), но функция у него, должен заметить, та же самая (и, конечно же, тождественная пресловутому «понимаешь»).
3Частица КАК БЫ требует, однако, отдельного разговора, причем в комплекте с неопределенным местоимением НЕКИЙ. КАК БЫ и НЕКИЙ — это как бы некие символы нашей культурной эпохи. От современного литератора вполне можно услышать сообщение: «Я как бы написал некий текст». Причем говорящий подобным образом, конечно же, понимает, какие слова в этой фразе лишние. Он мог бы сказать просто: «Я написал текст», — но почему-то боится. Наше время не любит решительных глаголов и оценочно-выразительных эпитетов. Мы как бы живем некоей жизнью.
Было бы крайне наивно призывать к избавлению от этих лишних и заведомо бессмысленных слов. Ну, не хотят люди твердости и определенности в своей речи — дело хозяйское. Они же только свою личную речь засоряют, не вписывают в Пушкина: «Я как бы помню некое мгновенье…» А может быть, в языке нашем просто не хватает неопределенных артиклей и «некий» — эквивалент англо-франко-немецких «а», «un», «ein»? Правда, нельзя забывать, что тут имеется и легкая негативная коннотация: «некий писатель», «некий критик» обычно произносят с неприязнью. В «Чукоккале» есть составленный Э. Казакевичем иерархический перечень эпитетов к слову «писатель»: на первом месте «величайший», а в самом низу Б. Заходером добавлено «некий». Такая «табель о рангах» сформировалась в годы проработок, и с тех пор никому не было по вкусу, когда его фамилию сопровождали подобным определением. Но так или иначе, с годами популярно-заразные пустые словечки из языка уйдут, уступив место новым вирусам и инфекциям, которые для «великого и могучего» хотя и неприятны, но, конечно же, не смертельны.
Однако пресловутое КАК БЫ имеет и экстралингвистический смысл. Это знак на глазах устаревающей модернистской моды, когда никакое фабульное событие нельзя воспринимать наивно-реалистически, все происходит понарошку, как бы происходит. Своеобразной реакцией на засилье заведомо условных сюжетов стала мемуарно-автобиографическая тенденция («о том, что было»), но она вытянуть литературу не в состоянии. Самым отчаянным новаторством сегодня, по-моему, стало бы создание такого сюжета, который держится на иллюзии подлинности («не было, но могло быть»). Естественно, что для этого понадобится и качественно новый, непривычный и в то же время органичный язык.
С этой точки зрения мне все же представляется достаточно худосочной и устаревающей творческая тенденция, явленная в нашумевшем романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». Двуплановость повествования не создает «третьего измерения», поскольку, на мой вкус, оба плана (Петр с Чапаевым и Петр в сумасшедшем доме) слишком вторичны и умозрительны. Несмотря на все декларации автора по поводу «буддизма», я вижу здесь вполне европоцентристский литературный штамп: в сумасшедшем доме слишком много времени провел и романтизм прошлого века, и модернизм века нынешнего, эта почва уже безнадежно истощена.
Ознакомительная версия.