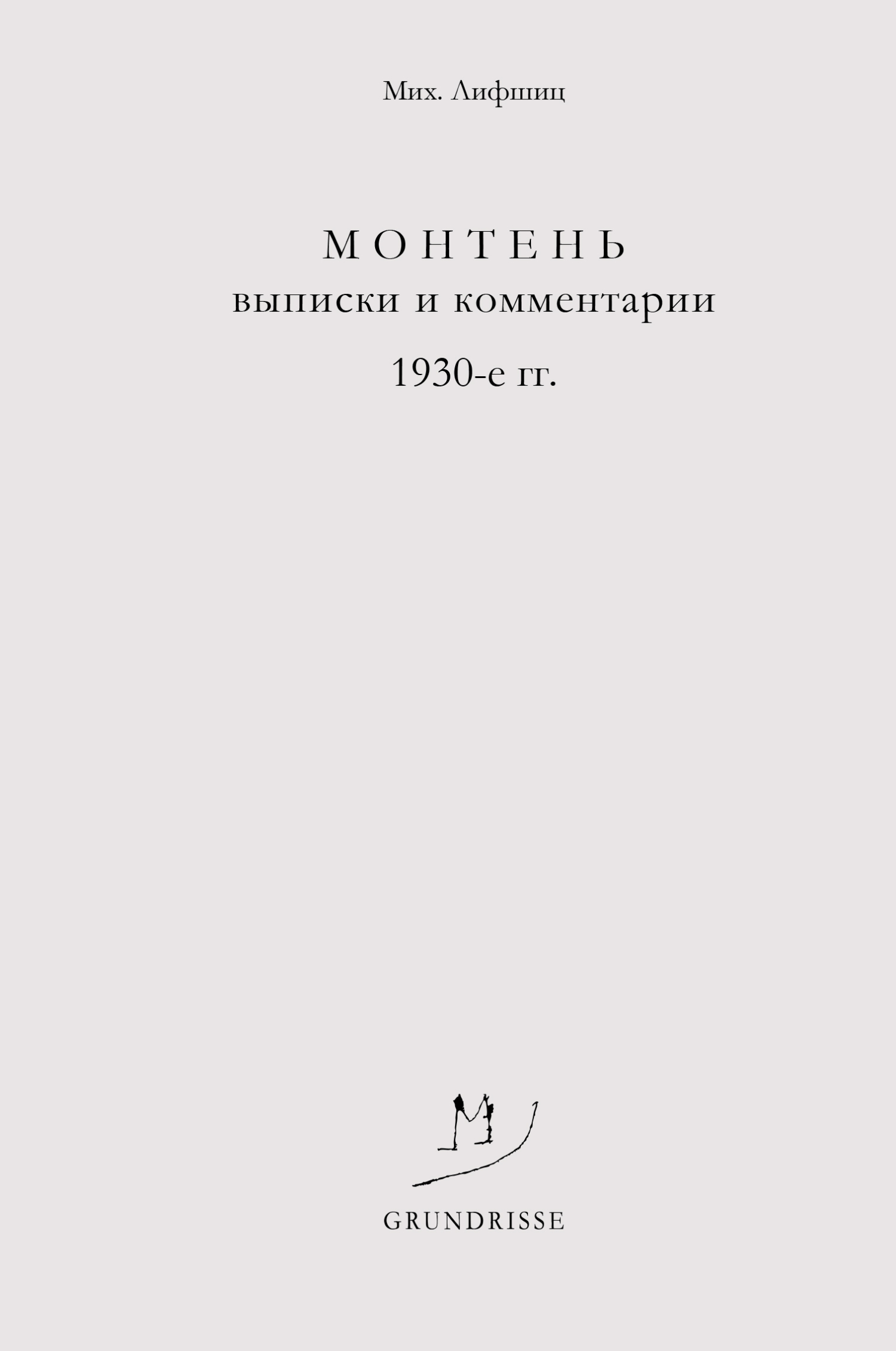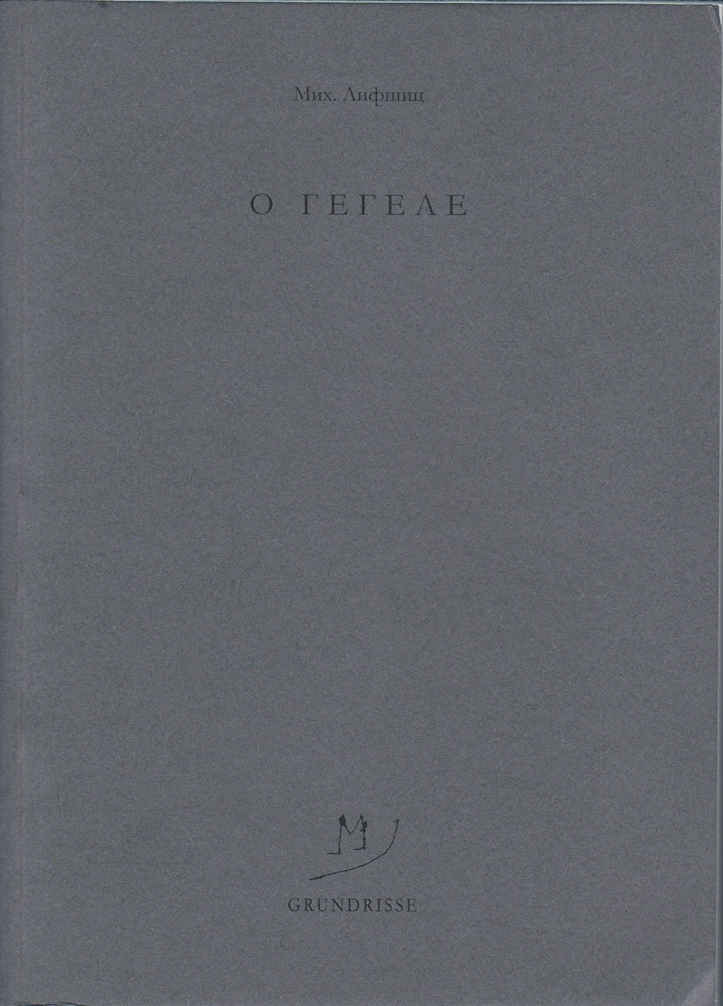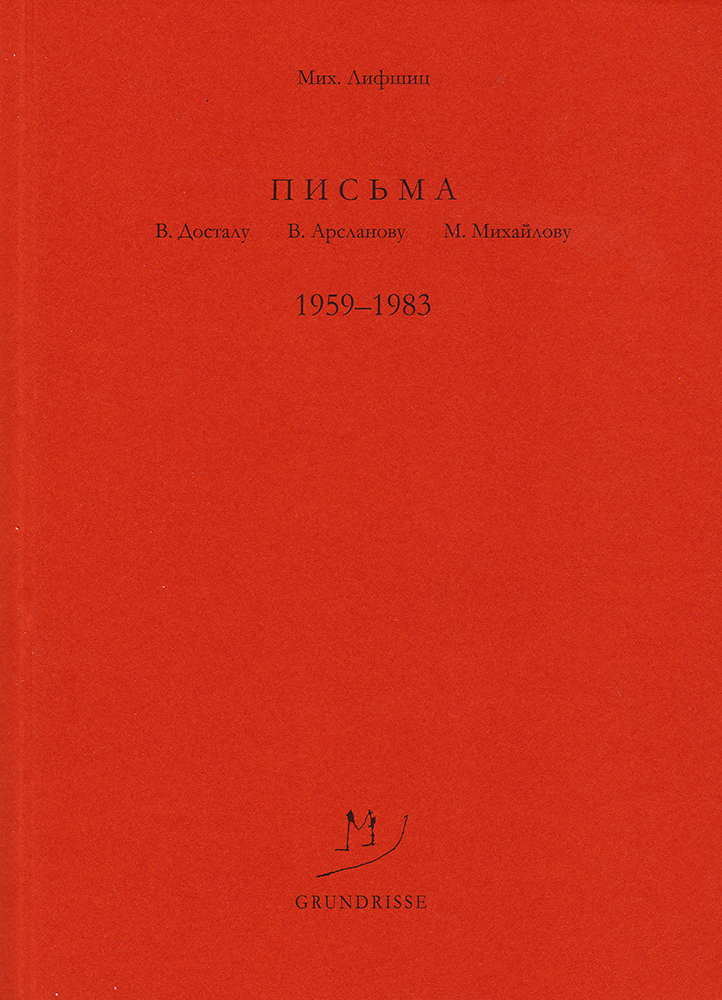Это место настолько исключительно, что я позволю себе прочитать его 8:
«Множество страждущих, милых и ужасных, тёмных и светлых, отдалённых и близких образов вставали массами, мириадами, поколениями. Египет, застывший, таинственный, возникал из песков в виде мумии, обвитой чёрными повязками; фараоны, погребавшие целые народы, чтобы построить для себя гробницы; и Моисей, и евреи, и пустыня; он прозревал целый мир, древний и величественный. Свежая и пленительная мраморная статуя, водружённая на витой колонне и сверкающая белизной, говорила ему о сладострастных мифах Греции и Ионии. Ах, кто бы, подобно ему, не улыбнулся, увидев на тонкой глине этрусской вазы смуглую девушку, пляшущую на красном фоне перед богом Приапом, которого она приветствует с весёлым лицом; на оборотной стороне латинская царица любовно предавалась своим мечтам. Причуды императорского Рима дышали тут в своём натуральном объёме, и можно было видеть ванну, ложе, туалетный стол какой-нибудь ленивой мечтательной Юлии, поджидающей своего Тибулла. Вооружённая могуществом арабских талисманов, голова Цицерона возбуждала в нём воспоминание о свободном Риме и раскрывала пред ним страницы Тита Ливия. Молодой человек видел Senatus populusque romanus 9; консулы, ликторы, отороченные пурпуром тоги, борьба на форуме, раздражённый народ проходили перед ним, как туманные фигуры сновидения. Наконец христианский Рим возобладал над этими образами. Картина изображала отверстые небеса: он увидел деву Марию среди сонма ангелов, окружённую золотым облаком, затмевающую великолепие солнца, внимающую стенаниям несчастных, которым эта возрождённая Ева улыбалась ласковой улыбкой. Когда он прикоснулся к мозаике, сделанной из разноцветных лав Везувия и Этны, его душа перенеслась в тёплую и дикую Италию; он присутствовал при оргиях Борджа, скитался в Абруцских горах, вздыхал по любви итальянок, увлекался блед ными лицами с продолговатыми чёрными глазами. Разглядывая средневековый кинжал с рукоятью, отделанной кружевной резьбою, и с ржавчиной, напоминавшей капли крови, он вздрагивал, воображая ночные свидания, прерванные холодною шпагой мужа. Индия и её религия оживали перед ним в образе идола в островерхой шляпе с косоугольным орнаментом, украшенного колокольчиками, облачённого в золото и шёлк. Подле этого уродца ещё пахла сандалом цыновка, прекрасная, как баядерка, которая когда-то валялась на ней. Китайское чудовище, с перекошенными глазами, с искривлённым ртом, с изуродованными членами, будоражило душу фантазией народа, который, утомясь красотой, всегда однообразной, находит несказанное удовольствие в разновидностях безобразия. Солонка, вышедшая из мастерских Бенвенуто Челлини, переносила его в лоно Возрождения, когда процветали искусства и распутство, когда государи развлекались пытками, когда отцы церкви, покоясь в объятиях куртизанок, предписывали на соборах целомудрие простым священникам. В камее он видел победы Александра, в пищали с фитилём – убийства, учинённые Писарро 10, в глубине шлема – религиозные войны, неистовые, кипучие, жестокие. Затем, светлые образы рыцарства выглядывали из миланских лат, превосходно воронённых, отлично отполированных, и казалось, что из-под забрала ещё сверкают глаза паладина.
Этот океан мебели, вымысла, мод, произведений искусства, обломков создавал для него нескончаемую поэму. Всё воскресало: формы, цвета, мысли; но душа не улавливала ничего цельного. Поэтому приходилось доканчивать наброски великого живописца, создавшего эту грандиозную палитру, где в изобилии и с пренебрежением были раскиданы бесчисленные явления человеческой жизни. Овладев миром, после созерцания стран, веков, царствований, молодой человек перешёл к индивидуальным существованиям. Он снова перевоплотился, осознал подробности, отметнув жизнь народов, как слишком обременительную для одного человека.
Там спал ребёнок из воска, уцелевший от собрания Рюйша 11, и это прелестное создание напомнило ему радости детства. При обаятельном виде девственного набедренника какой-нибудь таитянской девушки его горячее воображение рисовало ему простую жизнь природы, непорочную наготу истинного целомудрия, очарование лени, столь свойственной человеку, спокойное существование на берегу свежего и мечтательного ручейка, под бананом, который, не требуя ухода, оделяет всех сладостной манной. То вдруг, страстно вдохновенный жемчужными переливами тысячи раковин, возбуждённый видом какого-нибудь звёздчатого коралла, пахнувшего морской травой, водорослями и атлантическими ураганами, он становился корсаром и облекался в грозовую поэзию, которой проникнута личность Лары 12. Затем, восхищаясь тонкими миниатюрами, лазурными и золотыми арабесками, украшавшими какой-нибудь драгоценный рукописный требник, он забывал о морских бурях. Тихо убаюкиваемый мирною мыслью, он вновь погружался в занятия и науку, вздыхал по сытой монашеской жизни, лишённой горечи, лишённой радости, и засыпал в глубине кельи, любуясь в стрельчатое окно лугами, лесами и вертоградами своего монастыря. Перед картиной Тёнирса он облачался в солдатский плащ или лохмотья работника; ему хотелось носить засаленную и пропитанную дымом шапку фламандцев, напиваться пивом, играть с ними в карты и улыбаться толстой крестьянке с заманчивой полнотою. Его охватывал озноб при виде метели Миэриса; он сражался, глядя на битву Сальватора Розы. Он поглаживал иллинойский томагавк и чувствовал, как ирокезский скальпель срезает ему кожу с черепа. Восхищённый видом ребёнка, он влагал его в руки владетельнице замка и наслаждался её мелодическим романсом, объясняясь ей в любви вечерком у готического камина, в полумраке, в котором тонул её взгляд, суливший согласие. Он цеплялся за все радости, постигал все пе чали, овладевал всеми формулами существования, столь щедро расточая свою жизнь и свои чувства на призраки этой пластической и пустой природы, что шум собственных шагов раздавался в его душе, как отдалённый отзвук иного мира, подобно парижскому гулу, доносящемуся до башен Собора богоматери.
Поднимаясь по внутренней лестнице, которая вела в залы, расположенные во втором этаже, он видел обетные щиты, полные доспехи, резные дарохранительницы, деревянные фигуры, развешанные по стенам или лежавшие на ступеньках. Преследуемый самыми диковинными формами, чудными творениями, находившимися на грани между смертью и жизнью, он шёл как бы в очаровании сна. Наконец и сам он, сомневаясь в своём существовании, был, как и эти странные предметы, не вполне жив и не вполне мёртв. Когда он вошёл в верхние залы, день стал уже угасать; но свет, казалось, был не нужен для сваленных там богатств, сверкавших золотом и серебром. Самые дорогие причуды расточителей, владевших миллионами и умерших на чердаке, были собраны на этом обшир ном базаре человеческих безумств. Чернильница, за которую было заплачено сто тысяч франков и которая была потом куплена за сто су, лежала возле замка с секретом, стоившего столько, что за эти деньги можно было бы во время о́но выкупить из плена короля. Тут че ловеческий гений являлся во всём блеске своей глупости, во всей славе своего гигантского ничтожества. Стол из чёрного дерева, настоящий кумир для какого-нибудь художника, украшенный резьбой по рисункам Жана Гужона и потребовавший когда-то нескольких лет работы, был, быть может, куплен за цену вязанки дров. Тут пренебрежительно были свалены в кучу драгоценные шкатулки и мебель, сделанная руками