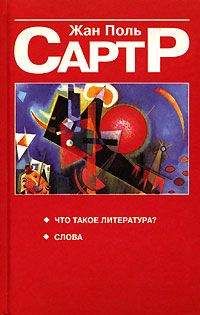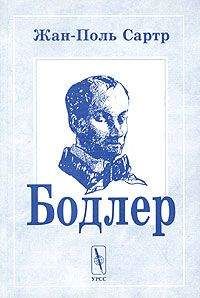Ознакомительная версия.
Дриё же, мрачный и более логичный, хорошо продумал свою смерть. Он полон ненависти к своей стране и людям только из-за ненависти к самому себе. Все сюрреалисты старательно ищут абсолют, и, поскольку у них повсюду их относительность, они абсолют приравняли к невозможному.
Все выбирали из двух ролей. Можно было провозглашать новый мир, и можно было разрушать старый. Но в послевоенной Европе лучше просматривались признаки упадка, чем признаки обновления. Поэтому они остановились на разрушении. Для успокоения своей совести они вспомнили древний Гераклитов миф, по которому жизнь рождается из смерти. Все они стремились к воображаемой точке "гамма", единственно неподвижной в меняющемся мире. С которой полное и не оставляющее надежды разрушение отождествляется с абсолютным созиданием. Все были очарованы насилием, кто бы его ни нес. Только через насилие они хотели освободить человека от удела человеческого. Поэтому им стали близки крайние партии, которым они бескорыстно приписывали им апокалипсические цели. Все были обмануты. Революции не произошло, а нацизм потерпел поражение.
Их жизнь протекала в благополучный и щедрый период, когда отчаяние было роскошью. Они осудили свою страну, потому что она еще была победителем, они объявили войну, потому что решили, что мир продлится долго. Все оказались жертвами страшного бедствия – 1940 года. Наступило время действия, а никто из них не имел оружия. Одни сами убили себя, другие предпочли изгнание. Вернувшись, они превратились в изгнанников среди нас.
Они призывали катастрофы в годы тучных коров, а в годы тощих коров им нечего было сказать своему читателю.
Скромный гуманизм был оттеснен вернувшимися блудными сыновьями, которые старались найти больше неожиданностей и безумств в родительском доме, чем на узких горных тропинках и караванных путях пустыни. Это были певцы отчаяния, блудные дети, для которых еще не настал час возвращения в отчий дом.
Прево, Пьер Вост, Шамсон, Авелин, Беклер были почти ровесники Бретона и Дриё. Их дебют был блистательным: Бост еще сидел на школьной скамье, когда Копо сыграл его пьесу "Дурак"; Прево был отмечен еще студентом Эколь Нормаль. Но они не потеряли скромности, им не хотелось строить из себя Ариэлей капитализма, им не нужно было звание ни проклятых, ни пророков.
Когда Прево спросили, зачем он пишет, он просто сказал: "Я этим зарабатываю на жизнь". Тогда эта фраза меня шокировала, потому что у меня еще живы были в памяти остатки великих литературных мифов XIX века. Впрочем, это была неправда. Нет писателя, который пишет, чтобы заработать на жизнь. То, что показалось мне цинизмом, на самом деле было желанием точно, ясно, а при необходимости и критически мыслить.
Не принимая ни ангелизм, ни сатанизм, эти писатели не хотели стать ни святыми, ни животными. Они стремились остаться людьми. Наверное, впервые со времен романтизма они видели в себе не аристократов потребления, а надомных работников, кем-то сродни переплетчикам или плетельщикам кружев. Они видели, в литературе ремесло не для того, чтобы получить лицензию на продажу своего товара тому, кто заплатит больше, а для того, чтобы без униженности и гордыни иметь свое место в обществе тружеников.
Ремеслу учатся, и поэтому тот, кто им занимается, не может презирать свою клиентуру. Поэтому у этих писателей даже наметилось примирение с читателями. Слишком честные, чтобы считать себя гениями и требовать соответствующих прав, они больше рассчитывали на труд, чем вдохновение.
Возможно, у них было маловато той отчаянной веры в свою звезду, той необоснованной и слепой гордости, которая присуща великим людям. За ними стояла вся активная, участвующей в жизни общества культура, которую Третья республика предоставила будущим функционерам. Поэтому почти все они и стали государственными функционерами, квесторами в Сенате, в Палате, профессорами, хранителями музеев.
Большинство из них было из скромной среды. У них и в мыслях не было использовать свои знания для защиты буржуазных традиций. Они никогда не превращали культуру в историческую собственностью. В ней они видели только драгоценный инструмент, позволяющий стать человеком. В лице Алена они приобрели учителя мысли, который ненавидел историю. Как и он, все эти писатели были убеждены, что моральная проблема одна во все времена. Общество они воспринимали в его сиюминутном срезе.
Чуждые психологии и историческим наукам, тонко чувствующие социальную несправедливость, но слишком картезианцы, чтобы поверить в классовую борьбу, они считали своей единственной задачей использовать свое ремесло против страстей и их заблуждений, против иллюзий, опираясь на волю и разум. Они искренне любили маленьких людей: парижских рабочих, ремесленников, мелких буржуа, служащих, бродяг. Нежность, с которой они рассказывали об их судьбах, приводила иногда к популизму. Правда, они никогда не соглашались с догмой, характерной для этого порождения натурализма, догмой о том, будто детерминизм общества и человеческой психики формирует эти мало для кого заметные жизни. В отличие от традиций социалистического реализма, они не желали изображать действующих лиц своих произведений как жертв классового гнета, у которых нет надежды на будущее. Раз за разом эти поборники морали пытаются показывать их терпение, старание, представляют их несчастья как вину, а удачи как заслугу. Моралистов редко заботят экстраординарные судьбы, они намерены продемонстрировать, что несчастье можно достойно переносить.
В наши дни писатели этого направления либо редко печатаются, либо умолкли, либо отошли в мир иной. Авторы – ровесники века, которые так начинали с таким блеском, в большинстве своем остановились на полдороге. Можно указать на исключения, но они не отменяют общей закономерности, которая требует объяснения. В самом деле, все они были наделены творческим потенциалом, глубоким дыханием. Их полагалось бы считать предшественниками, потому что они отказались от гордого одиночества творца, искренне любили своих читателей, не искали оправдания приобретенным льготам. Они не философствовали о смерти, о неосуществимом, они всего лишь намеревались учить жизненным правилам. Читали они намного больше, чем последователи сюрреализма. Но все-таки, говоря о магистральном направлении литературы между двумя войнами, прежде всего вспоминаешь именно сюрреализм. Чем объяснить такое фиаско?
Это прозвучит парадоксально, но причина в неправильном выборе аудитории. Либеральная буржуазия обрела самосознание с 1900 года, года победы в деле Дрейфуса. Для нее характерны антиклерикальность и республиканский дух, отрицание расизма, проповедь индивидуализма, рационализма и вера в прогресс. Она дорожит своими установлениями, она согласна корректировать их, но не разрушать. Либеральная буржуазия не смотрит на пролетариев свысока, она ощущает свое родство с ними и сознает, что угнетает рабочих. Ее жизнь нельзя назвать шикарной, случается и-нужда. Стремится она не к богатству как таковому или идеалу величия, сколько к повышению уровня жизни в достаточно узких рамках.
Жить для нее означает: выбирать себе профессию, заниматься ею увлеченно, даже со страстью, иметь возможность проявлять инициативу в труде, контролировать своих политических избранников, свободно высказывать свои взгляды на ход государственных дел, воспитывать достойным образом потомство. Ее можно назвать картезианской, поскольку она побаивается чересчур быстрого возвышения. В противовес романтикам, вечно ожидающим внезапного счастья, она больше заботится о том, чтобы преобразовать саму себя, чем о ходе мировой истории.
Либеральную буржуазию удачно именуют "средним классом". Она учит подрастающее поколение отказываться от чрезмерного, считая, что лучшее – враг хорошего. Мелкий буржуа сочувствует борьбе пролетариев за свои права, если только она не выходит за чисто экономические рамки. У него нет исторического чутья, поскольку нет ни прошлого, ни славных традиций, свойственных представителям крупной буржуазии, нет надежды на светлое будущее, присущей пролетарию. Он не верит в Бога, однако жаждет придать смысл собственным заботам, в том числе интеллектуальным, одной из которых было утвердить нерелигиозную мораль. В течение двадцати лет университет, безраздельно принадлежащий среднему классу, пытался сделать это стараниями Дюркгейма, Брюнсвика, Алена, но безуспешно. Именно эти умы и были, прямо или опосредованно, наставниками тех писателей, о которых мы говорим на этих страницах. Молодые люди, выходцы из среднего класса, обученные профессорами из своей среды, получившие диплом Сорбонны или других высших школ, вернулись обратно в этот класс, когда взялись за перо. Строго говоря, они его никогда не покидали. В своих романах и небольших рассказах они воссоздали в улучшенном, систематизированном виде мораль, рецепты которой общеизвестны, но принципы нигде не сформулированы. Упрямо и настойчиво они живописали красоту и суровое величие ремесла, они воспевали не любовную страсть, а в большей степени тесное взаимопонимание между супругами и институт брака как таковой. Они утвердили фундамент своего варианта гуманизма на профессионализме, дружбе, гражданской солидарности и спорте.
Ознакомительная версия.