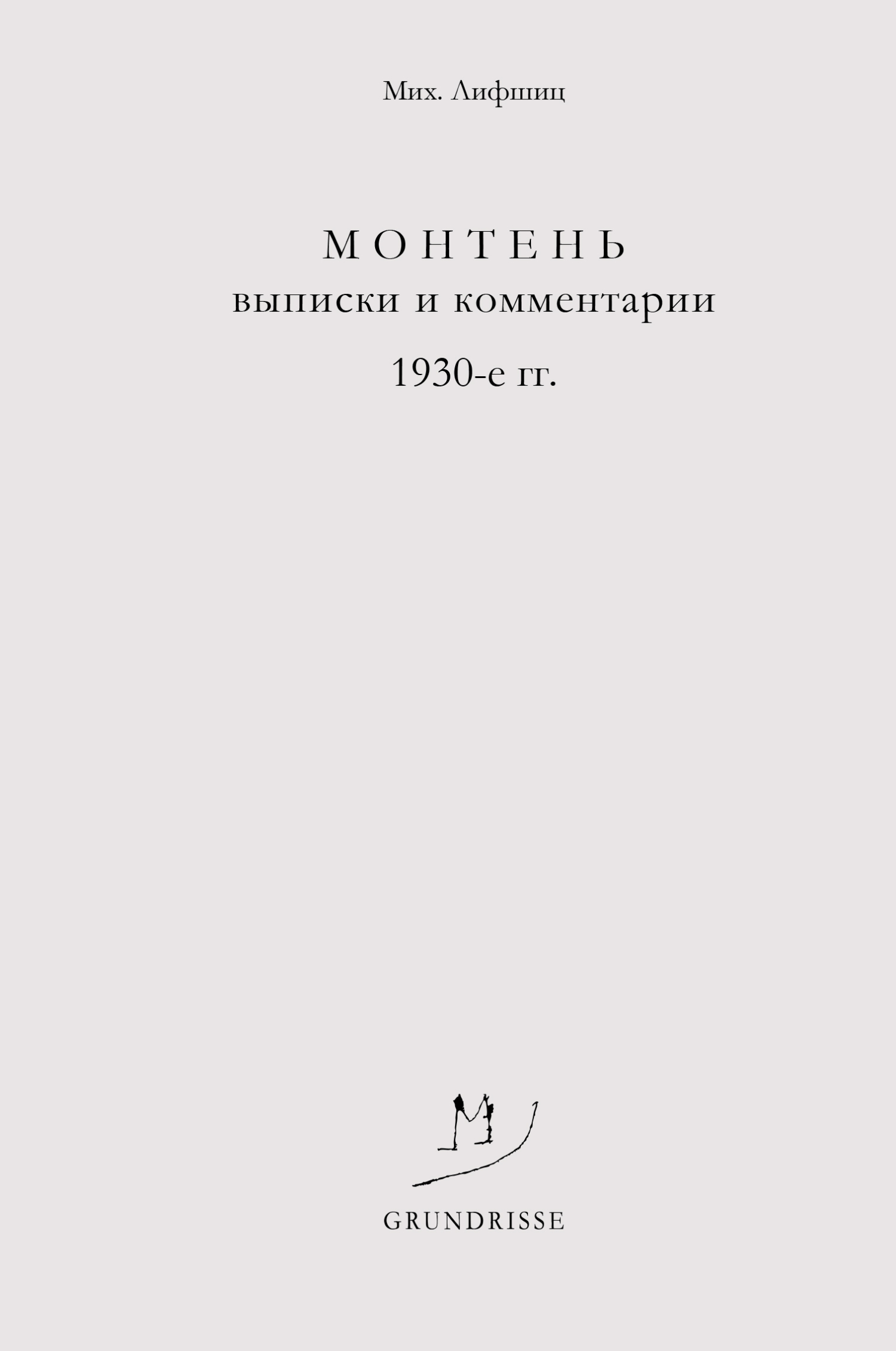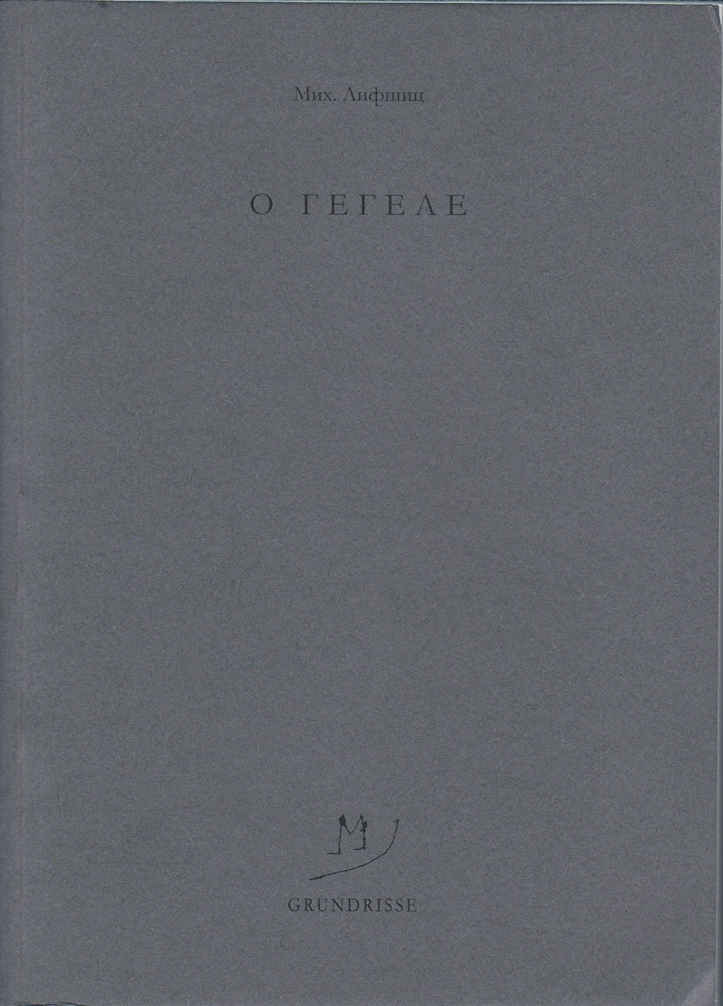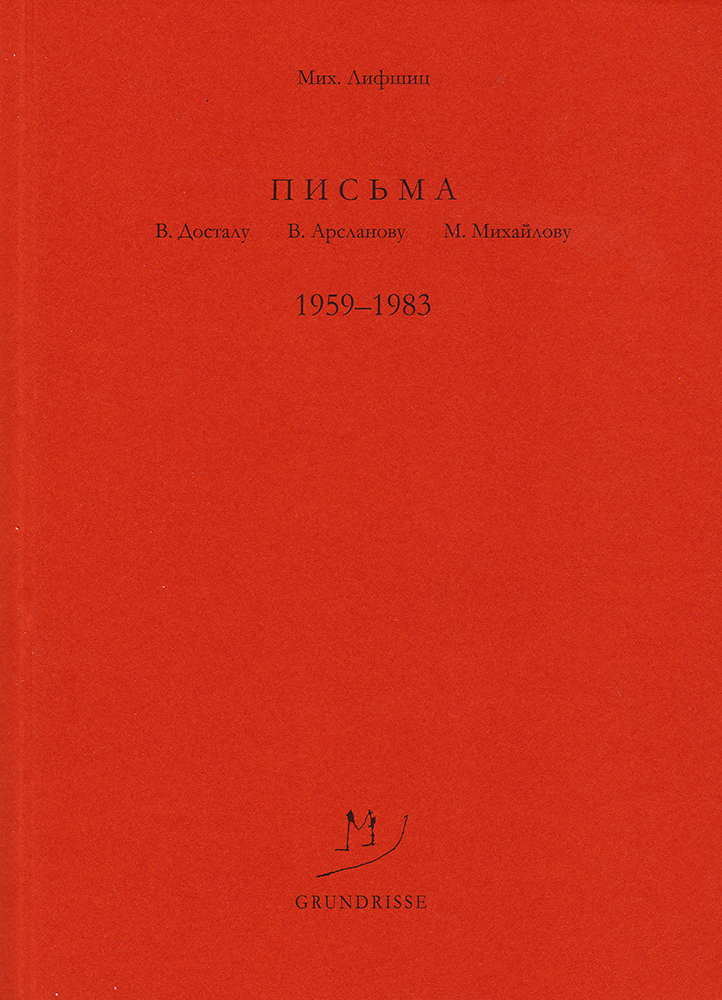препинания. И у нас в начале революции, когда «Рукопожатия отменяются» было популярным лозунгом, между прочим, была и такая тенденция – писать и печатать без прописных букв и без знаков препинания. Причём любопытно, был один писатель из матросов, который действительно воплощал такой лихой анархистский стиль. Он вообще писал без заглавных букв, без знаков препинания потому, что он действительно и не умел этого делать, он этого ещё не знал, но возле него очень быстро образовалась целая школа, которая проповедовала в этом глубокий смысл: «Подумаешь, правописание, которому нас учили когда-то! Всё это – принадлежность мещанства. Пора всё это отменить, всё, чтобы средние буквы в строке были больше, чем начальные, печатать вкривь, печатать вкось, словом, разрушить этот штамп». И мне это, товарищи, как раз как-то вспомнилось, пришли на память эти несколько случаев, потому что они указывают на известное, если хотите, совпадение, но по разным причинам.
Вот те стихи, которые я прочёл вам, эти стихи Кирсанова, когда он будет их с притопыванием и приплясыванием исполнять, они могут понравиться в такой аудитории, где не выработаны ещё вкус и культура 133. Но <это может быть воспринято и> христианской общиной, и каким-нибудь утончённым гностиком позднеримским, который воспроизводит риторические фигуры со смакованием изящных греческих слов. Вот такой формализм на исходе культуры, с одной стороны, и известный недостаток культуры со стороны поднимающегося нового слоя людей, это часто может создать такую неясность и такую путаницу, из которой трудно, будто бы, на первый взгляд, выбраться, но выбраться необходимо. И отделить их друг от друга нужно, потому что недостаток культуры есть вещь, которая исправима и обязательно должна быть исправлена и исправляется. И история показывает, что как раз с того момента, с того времени, как я сделал это наблюдение в театре Мейерхольда о вкусах народных и потребностях театра, огромный прогресс произошёл и в смысле требовательности, и в смысле понимания. Но если этот недостаток культуры есть исправимый недостаток, есть нечто такое, что не заключает в себе вредного острия, то делать из этого философию, сознательно примитивизироваться, сознательно вульгаризовать, как это сплошь и рядом делают, к сожалению, люди, <которые> далеко не такие уж простачки, чтобы они так думали и так чувствовали, как они пишут, – это как раз уже плохо.
И вот я вспоминаю известные литературные выступ ления великого князя Святополка-Мирского. Неужели он был уж так примитивен, что стоял от чистого сердца на той позиции, что Пушкин был подхалимом к царю и написал он «Евгения Онегина» для того, чтобы специально нравоучение своей супруге преподнести 134? Неужто он был так примитивен? Нет. Мы теперь знаем, его дальнейшая судьба известна, он в данном случае действовал провокационным образом. Это служило средством засорения и было подстроено той средой, в которой он действовал и в которой он работал 135.
А сколько людей, которым нельзя предъявить такого политического обвинения, людей, хотя бы по внешним данным не примитивных, например, профессор Мокульский в Ленинграде? Его можно считать в душе примитивным, но он всё-таки не примитивен по количеству знаний, по образовательному цензу. Но почему же такой человек и другие многие старые профессора формалисты, искушённые в литературе и знавшие очень много, почему они писали такие вульгарно-социологические глупости? Неужели только из страха, чтобы их кто-нибудь не проработал? Да нет, со вкусом, со смакованием они писали, что Мольер в «Мнимом больном», говоря о врачах, заботился о гигиене и санитарии восходящего буржуазного класса 136. Потому что у них была идея сознательной вульгаризации, сознательного вульгаризирования. Они думали, что это необходимо, они считали, что это есть последний крик культуры. Последний крик культуры состоит именно в том, чтобы отказаться от всякого научного критицизма и особо сложных каких-нибудь философских, теоретических и прочих понятий. Вы обязаны унаследовать от прошлого, доработать какую-нибудь глупость, считая, что это есть выражение нашего времени, это есть современность, это есть выражение нашей эпохи, это есть то, что нужно пролетариату, и т. д.
Вот такого рода сознательная вульгаризация, сознательный штамп колоссальный вред приносили нам всегда, начиная от эпохи Пролеткульта 137 и через вульгарную социологию и до настоящего времени, потому что и сейчас, конечно, это не исчезло. И вы понимаете, почему я предпочитаю человека, не бог весть какого профессора, который остался от старого кадетского времени, который, не мудрствуя лукаво, будет перелагать совокупность знаний, в известной степени не затрагиваемых глубоким методологическим анализом, но передаваемых хотя бы как знания, как школьные знания, как школьные дисциплины, систематические знания. Конечно, это гораздо лучше, чем когда какой-нибудь человек берёт на себя претензию перевоплощаться в точку зрения пролетарской культуры и стилизоваться под такого синеблузника в синем комбинезоне и с одинаковыми подбородками и с одинаковыми головами рабочих, как это изображали на плакатах, – и переварить то, что ему известно из тех же источников.
Или, например, школа и педагогия. В школе у нас долгое время было много беспорядков. Было, действительно, незнание знаков препинания и часто ещё и сейчас есть, и этот недостаток культуры, недостаток преподавателей, слабое развитие требовательности, целый ряд таких элементов – это вещи устранимые, и их необходимо устранять. Но что, между прочим, мешало устранить эти вещи долгое время? То ложное доктринёрство, которое эту неграмотность, это нарушение правильности школьной работы возводило в принцип, подводило под это «левый» экспериментаторский характер, делало из этого принцип, боролось со старой школой как со штампом 138. И вот почему я в этом смысле стою лучше за те формы проявления культурной работы вообще и просветительной деятельности в широком смысле слова и художественной в частности, которые хотя школьно, хотя культурно-исто рически, как угодно, но передают известный минимум просветительного материала, на основе которого уже народ и учащиеся наши пойдут дальше и сумеют, конечно, углубить это настолько, чтобы из этого вышли настоящая наука, настоящее искусство, настоящая поэзия. Вот что, мне кажется, является здесь необходимым при оценке.
Здесь мне задали такой вопрос: «Вы утверждаете, что литература Лебедева-Кумача отличается примитивизмом, но почему тогда его произведения являются народными в полном смысле слова, почему его произведения любимы публикой? Ведь только подлинное искусство может стать народным».
Это очень растяжимое понятие – народное. Но ведь мы пели очень различные вещи. Мы пели, например, «Сергей поп, Сергей поп…» 139. Я пел это и считал это правильным, и это было в своё время ступенью, и я не сомневаюсь в том, что напишут ещё такие песни, которые отодвинут песни Лебедева-Кумача, создадут песни, несомненно,