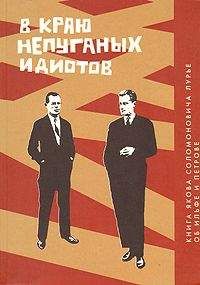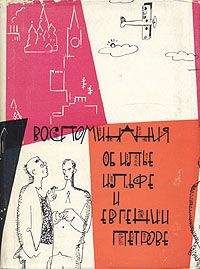«Клооп», водевиль «Сильное чувство» и рассказ «Последняя встреча» — таково было отражение в творчестве Ильфа и Петрова «зримых черт» нового общественного строя, установившегося в середине 1930-х гг. Случайно ли почти полное совпадение наименования «Клооп» с названием пьесы Маяковского, изображавшей счастливое общество будущего? Может быть, и случайно, но название это оказалось символическим. У Ильфа и Петрова был рассказ на другую тему — «Рождение ангела»— об обыкновенных киношниках, изготовляющих индустриальный фильм с главным положительным героем. Консультант-вундеркинд, участвующий в создании фильма, больше всего боится, чтобы фильм не походил на картины Чаплина, Довженко, Пудовкина.
— Ты, мальчик, не бойся, — успокаивает его взрослый кинематографист. — Как у Чаплина не выйдет… Не будет, как у Довженко. И как у Пудовкина не будет (Т. 3. С. 150–151).
Такой же убедительный и вместе с тем безнадежный вывод вытекал из картины эпохи, нарисованной Ильфом и Петровым. Не выйдет, как у Фурье, не будет, как в «Принципах коммунизма», и как в мечтах Маяковского не будет. Будет не как в «Клопе», а как в «Клоопе».
Но черты нового общества были изображены авторами только в нескольких рассказах и пьесе; роман «Подлец» остался замыслом писателей. В книге «Мой друг Ильф», начатой Е. Петровым через несколько лет после смерти его соавтора с явной целью придать максимальное благообразие их совместной творческой биографии (мы еще вернемся к этой книге), неудача с третьим романом всецело объясняется внутренними творческими причинами: «…писать смешно становилось все труднее. Юмор — очень ценный материал, и наши прииски были уже опустошены»[220]. Иное объяснение привел Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь», написанной тридцать лет спустя с похвальной целью рассказать(хотя бы частично) правду о прошлом. Упоминая споры о третьем романе, происходившие в Париже между соавторами, Эренбург привел слова Ильфа: «Как теперь нам писать?.. «Великие комбинаторы» изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилия и адрес — это «уродливое явление». А напишешь рассказ — сразу загалдят: «Обобщаете, нетипическое явление, клевета»… А стоит ли вообще писать роман?»[221]
Свой третий роман Ильф и Петров так никогда и не написали.
Положение Ильфа и Петрова в середине 1930-х гг., внешне казавшееся благополучным, было в действительности очень трудным. Мы уже отмечали противоречивость их роли. Стремясь создать идеологическую отдушину, Мехлис (возможно, с благословения своего хозяина) приглашает в свою газету двух популярнейших юмористов страны. Им было разрешено бичевать «уродливые явления», избегая, однако, ненужных обобщений. А они между тем мечтали создать роман о «подлеце», делающем «карьеру в советских условиях», и писали рассказы, способные вызвать у читателя мысль о «типическом правиле».
Опасность этого пути они, конечно, сознавали, тем более что им не забыли напомнить о ней в связи с «Клоопом». Выход, который нашли сатирики, был довольно обычным: затрагивая острые сюжеты, они сопровождали их словесными оговорками, компромиссными формулами, декларациями о лояльности.
Постепенно в фельетонах Ильфа и Петрова все чаще стали появляться оговорки о частном и нетипичном характере изображаемых явлений — оговорки, над которыми сами они не раз смеялись.
Отдельные авторы отдельных книг, в единичных случаях изданных отдельными издательствами… в единичных случаях отдельные заведующие… (Т. 3. С. 131, 165).
Авторы начали сочинять оптимистические концовки и противопоставлять рисуемые ими невеселые картины чему-нибудь светлому и прекрасному. Например, в довольно ехидном фельетоне о собратьях по перу «Литературный трамвай»:
Но хорошо, что трамвай движется… и что походная трамвайная дифференциация… готова перейти в большой и нужный спор о методах ведения советского литературного хозяйства (Т. 3. С. 175).
В другом фельетоне:
Ленин, погруженный в работу, громадную, неизмеримую, находил время, чтобы узнать, как живут… люди, которых он видел мельком, несколько лет назад… А у этих пятидесяти человек, которые, конечно, считают себя исправными жителями социалистической страны, не нашлось ни времени, ни желания, чтобы выполнить первейшую обязанность… гражданина Советского Союза— броситься на помощь… (Там же. С. 215).
Еще в одном месте — о людях, пользующихся блатом:
Вырвал из плана, смешал карты, спутал работу, сломал чьи-то чудные начинания, проник микробом в чистый и сильный советский организм (Там же. С. 229).
Наиболее отчетливо эта тенденция была выражена в фельетоне «Любовь должна быть обоюдной», посвященном весьма острой теме — о людях, попавших в литературу случайно, иногда по протекции, но выступающих от ее имени с заверениями о преданности власти.
Что уж там скрывать, товарищи, мы все любим советскую власть. Но любовь к советской власти — это не профессия, — заявляли авторы. — Надо еще работать. Надо не только любить советскую власть, надо сделать так, чтобы и она вас полюбила. Любовь должна быть обоюдной (Там же. С. 291–292).
Несмотря на некоторую неожиданность этого пассажа в данном контексте, он имел существенное значение. Еще несколькими годами раньше Ильф и Петров смеялись над подобными декларациями, сравнивая их с международными дипломатическими признаниями. Теперь же им пришлось письменно декларировать свою любовь к власти. Фельетон был написан в 1934 г., и мы можем сказать, пародируя авторов, что Ильф и Петров признали советскую власть вскоре после Соединенных Штатов.
Уступки выражались не только в отдельных декларациях. Среди поздних рассказов Ильфа и Петрова есть несколько таких, которые резко отличаются от всего написанного ими. Это фельетоны или, скорее, очерки, повествующие не об отрицательных, а о сугубо положительных элементах советской действительности. К числу таких «положительных» фельетонов принадлежат «Черноморский язык»(«Хорошо стреляют в Черноморском флоте. То есть, когда стреляют хорошо — это у них считается плохо… Считается хорошо, когда стреляют отлично»)[222]и «М»— восторженный панегирик новому московскому метро (Там же. С. 354–357). Иной, но также вполне официозный характер имел фельетон «Россия-Го»— о белых эмигрантах и, в частности, о Нобелевской премии Бунина. Фельетон не лишен остроумия: описание лихорадочного эмигрантского ликования по поводу награждения Бунина и последовавших за этим «провинциальных парижских будней» (Там же. С. 343), вероятно, в какой-то степени соответствует действительности — оно во многом совпадает с тем, что писали сами эмигранты. Кроме того, Бунин мог бы, если бы захотел, ответить авторам, так что писать о нем было куда приличнее, чем ругать Пильняка. И все-таки полная «дозволенность» и даже желательность подобной сатиры на эмигрантов вызывает неприятное чувство. «…Сатира… бывает честная, но навряд ли найдется в мире хоть один человек, который бы предъявил властям образец сатиры дозволенной», — писал Булгаков в «Жизни господина де Мольера»[223]. То есть предъявить, конечно, предъявляли, и не раз, но чем дозволеннее было предъявляемое, тем меньше оно имело прав называться честной сатирой, да и сатирой вообще.
К счастью, однако, «Черноморский язык», «М» и «Россия-Го»— редкое исключение в творчестве Ильфа и Петрова. Что же было главной темой их рассказов и фельетонов тех лет? Главное место в них занимала тема, давшая имя одному из фельетонов: «Равнодушие». Поводом для написания рассказа было событие, действительно происшедшее с одним из авторов.
Ночью понадобилось срочно отвезти жену в родильный дом, но «ночные такси свою работу уже закончили, а дневные еще не начинали». С трудом найденный автомобиль на половине пути испортился. Герой стал ловить проезжающие машины, которых было немало: «Что же вам сказать, товарищи, друзья и братья? Он остановил больше пятидесяти автомобилей, но никто не согласился ему помочь… Ни один из ехавших в тот час по Арбату не согласился уклониться в сторону на несколько минут, чтобы помочь женщине, рожающей на улице».
Этот случай дал авторам повод заявить о великом и широко распространенном преступлении — равнодушии. Равнодушие проявила артель, снабдившая большой московский дом замками, отпирающимися «пером «рондо», и простым пером, и вообще любой пластиночкой», равнодушие проявляет чиновник, украсивший московские трамваи стихотворным плакатом, призывающим пассажиров сдавать шкурки забитых ими свиней (Т. 3. С. 217–218). На ту же тему рассказ «Костяная нога» — о московском докторе, женившемся на одесситке и ставшем жертвой восстановленной в 1932–1934 гг. паспортной системы: