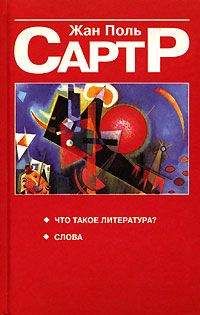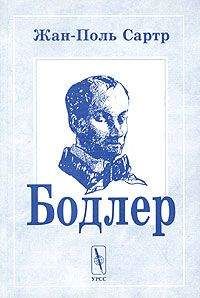Ознакомительная версия.
Миро написал картину "Разрушение живописи". А зажигательные бомбы могли уничтожить и живопись, и ее разрушение. Нам было не до восхваления изысканных буржуазных добродетелей. Это можно делать, когда ты уверен в их вечности. Но мы не были даже уверены в завтрашнем существовании самой французской буржуазии. Мы не могли, как радикалы, учить людей прожить мирную жизнь порядочного человека – ведь нас больше всего заботило, можно ли быть человеком на войне.
Пресс истории неожиданно обнажил взаимозависимость наций. События в Шанхае, как ножницами, разрезали нашу судьбу. Но оно невольно возвратило нас в национальное сообщество. Приходилось признать, что путешествия писателей старшего поколения, их жизнь на чужбине с соблюдением всего пышного церемониала международного туризма, был только обманом зрения. Эти путешественники просто увозили Францию с собой, странствовали, потому что Франция выиграла войну и условия для валютного обмена оставались благоприятными. Писатели шли за франком, как и он, получали больше доступа в Севилью и Палермо, чем в Цюрих или Амстердам. Когда мы оказались в возрасте, позволявшем поездить и посмотреть на белый свет, автаркия уже уничтожила "туристические" романы. Да и у нас не лежало сердце к путешествиям. Обладая извращенным вкусом к унификации мира, писатели-путешественники повсюду видели отпечаток капитализма. А мы без труда могли бы везде найти гораздо более яркое выражение унификации – оружие.
Независимо от того, путешествовали бы мы или нет, перед лицом угрожавшего нашей стране конфликта мы осознали, что не являемся гражданами всего мира. Мы не можем почувствовать себя швейцарцами, шведами или португальцами. Судьба наших произведений была тесно связана с судьбой Франции, находящейся в опасности. Старшее поколение творило для спокойных душ. Для нашей публики каникулы уже кончились. Люди, как и мы, ждали войны и смерти. Для этих читателей без досуга, имеющих только одну заботу, существовал только один сюжет. Их война, их смерть, о которой мы должны были написать. Довольно грубо нас вернули обратно в историю, нам пришлось создавать литературу историчную.
Но наша позиция была уникальна тем, что война и оккупация поместили нас в разваливающийся мир. Заставили нас опять увидеть абсолют в лоне реальности. Для наших предшественников спасение всего мира было правилом игры. Поскольку страдание несет с собою искупление. Никто не хочет быть злым сознательно. Нельзя проникнуть в сердце человеческое, поскольку божественной благодатью наделяют поровну. Это означает, что литература стремилась к установлению своего рода морального релятивизма. Исключение из этого составила только крайне левая сюрреалистическая. Та попросту смешивала карты.
Христиане уже не верили в ад, грех – превратился в пустое место, где прежде был Бог, плотская любовь стала любовью к совращенному с пути Богу. Демократия призывает терпимо относиться к любому мнению, даже к тем, которые откровенно стремились к ее уничтожению. Так и республиканский гуманизм, которому обучали в школах, сделал терпимость первой добродетелью. Нужно было терпеть все – – даже нетерпимость. Скрытую добродетель нужно было видеть в самых глупых идеях, в самых низменных чувствах.
У этого режима был философ – Леон Брюнсвик. Он всю свою жизнь, охватившую три поколения, собирал, интегрировал зло и заблуждения. Он утверждал, что это только видимость, результат разделения, ограничения и конечности. Все это будет уничтожено, как только рухнут границы, разделявшие системы и сообщества. Радикалы, по примеру Огюста Конта видели в прогрессе развитие порядка. Но порядок был уже здесь. Мы его пока просто не видели, как фуражку охотника на загадочной картинке: его надо было только обнаружить. Вот это они и делали. В этом состояли их умственные упражнения, и этим они оправдывали все, даже самих себя. Марксисты хотя бы признавали существование угнетения и империалистических амбиций капитализма, классовой борьбы и нищеты. Но я уже показал, что диалектический материализм приводит к исчезновению как Добра, так и Зла. Остается только исторический процесс. Помимо этого, сталинский коммунизм оставил так мало для индивида, что его страдания и даже его смерть не могут служить оправданием, если он мешал захвату власти. Оставленное без присмотра понятие Зла оказалось в руках манихеев – антисемитов, фашистов, правых анархистов. Они просто использовали его, чтобы оправдать свою злобу, зависть, непонимание истории. Для дискредитации понятия этого хватило. Зло считалось чем-то несерьезным как для политического реализма, так и для философского идеализма.
Для нас Зло всегда было очень серьезно. В этом нет ни нашей вины, ни нашей заслуги, просто мы жили в такое время, когда пытка была ежедневной реальностью. Шатобриан, Орадур, улица Соссэ, Тюлль, Дахау, Освенцим – через все это мы осознали, что Зло – не видимость, и знание его причин не рассеивает его. Зло не противостоит Добру как туманная идея идее ясной. Оно не результат страстей, которые можно искоренить, страха, который можно преодолеть, временных ошибок, которые можно было бы извинить, незнания, которое устраняется просвещением. Зло невозможно перевернуть, вобрать, свести, слить с идеалистическим гуманизмом, как та тьма, о которой говорил Лейбниц, необходимая для рождения света.
Маритен как-то сказал, что Сатана совершенно чист. Чист – значит не имеет примеси и прощения. Мы научились отличать эту жуткую, эту страшную чистоту. Она возникала в тесных, почти чувственных отношениях палача и его жертвы. Пытка означает, прежде всего, стремление унизить. Сколь долгими ни были бы страдания, сама жертва выбирает момент, когда они превращаются в невыносимые, и надо заговорить. Вся ирония пытки в том, что подвергающийся ей, при выдаче сообщников, использует всю человеческую волю на отрицание того, что он, человек, становится сообщником своих палачей и устремляется в бездну падения. Палач прекрасно понимает это, он ловит этот момент изнеможения не только потому, что ему необходимы сведения, но и потому, что это еще раз доказывает ему, что у него есть право применять пытку и что человек – животное, которое нуждается в кнуте. Он пытается уничтожить в своем ближнем человеческое. Но при этом он убивает человеческое и в самом себе. Палачу известно, что это рыдающее, потное и грязное существо, которое молит о пощаде, отдается с обморочной покорностью и хрипами, словно влюбленная женщина, расскажет все, и в безумном порыве просто пытается набить цену своему предательству. Палач понимает, что перед ним его собственный образ, и он остервеняется столько же против жертвы, сколько против самого себя. Жертва знает, что делает зло, и это, словно камень на шее, тянет его все ниже. Бели палач хотя бы в собственных глазах хочет остаться вне этого всеобщего распада, то у него есть только одно средство для этого. Ему нужно утвердить свою слепую веру в железный порядок, который, как корсет, будет держать наши мерзкие слабости. Это значит, опять отдать человеческую судьбу в руки бесчеловечных сил. Наступает момент, когда мучитель и мученик приходят к согласию: один – потому, что в конкретной жертве символически выплеснул свою ненависть ко всему человечеству, другой – потому, что может вынести свою вину, лишь доведя ее до предела, через укрепление ненависти к самому себе, ненависть всех остальных людей.
Возможно, палача потом и повесят. Жертва, если ей удастся вырваться, наверное, оправдает себя. А вот кто уничтожит эту мессу, во время которой все свободы объединились в разрушении человеческого? Нам было известно, что такую мессу служат по всему Парижу, когда мы едим, спим, занимаемся любовью. До нас доходили вопли целых улиц, и мы поняли, что Зло – плод свободной и суверенной воли, такой же абсолют, как и Добро. Можно надеяться, что придет счастливый день или счастливое время, когда, осознав прошлое, люди увидят в этих страданиях и позоре путь, который вел к Миру.
Но мы жили не на обочине уже свершившейся истории, как я уже говорил. Мы оказались в такой ситуации, что каждая прожитая минута казалась нам невосстановимой. Неосознанно мы сделали вывод, который прекраснодушным людям покажется шокирующим. Зло не искупить ничем.
Надо помнить, что большинство участников Сопротивления, несмотря на побои, пытки, вопреки тому, что их ослепляли, калечили, жгли, так и не заговорили. Этим они разорвали круг Зла и доказали человечность для себя, для нас, даже для своих мучителей. Все это было сделано без свидетелей, без помощи, без надежды, иногда даже без веры. Для них вопросом была не вера в человека, а желание этой веры. Все будто объединилось, что-бы отнять у них мужество. Все вокруг: и эти склоненные над ними лица, эта боль в них самих – все заставляло их поверить в то, что они насекомые. Человек – только неосуществимая мечта тараканов и мокриц. Однажды они очнутся и поймут, что они только могильные черви, как все. Этого человека можно было создать только с помощью их истерзанной плоти, преследуемых мыслей, которые их уже предали, начав с ничего и ни для чего, совершенно бесцельно. Только внутри человеческого можно увидеть цели, ценности, выбор, а они еще были в стадии сотворения мира и перед ними еще только стоял вопрос о свободном выборе. Станет ли мир чем-то большим, чем животное царство? Они молчали, и из этого безмолвия рождался человек.
Ознакомительная версия.