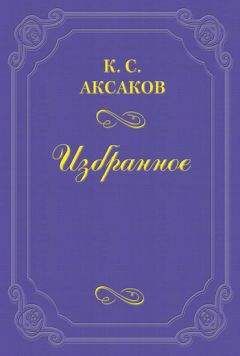Мы согласны с самой мыслью, но однако позволим себе сделать некоторые замечания.
Прежде всего скажем, что борьба эта (царя с боярством) была весьма не ровная, не только по силе той и другой стороны, силе, даруемой большей или меньшей современной потребностью, но и по характеру своему; с одной стороны – борьба действительная, с другой – чисто страдательная, так что слово «борьба», принимаемое и г. Соловьевым и нами, едва ли есть, впрочем, вполне соответственное слово. Бояре противопоставляли Иоанну одно терпение. Единственное, что они употребляли в свою защиту, – это отъезд, их древнее право. Но для Иоанна враг, и враг опасный, точно существовал в его воображении, и он всюду видел небывалые заговоры и умыслы против него. Мы не согласны со словами автора, приведенными в сделанной нами выписке, которые говорит он о боярах: «Уразумеют ли, что бессмысленно вызывать навсегда исчезнувшую удельную старину… Своим поведением они упрочили силу того начала, которому думали противодействовать во имя старых прав своих». Но они (бояре) ничего и не думали вызывать, ничему не противодействовали. Правили они государством даже по необходимости, ибо кому же было править в малолетстве государя, у которого и матери не было? Правя государством, они ссорились, боролись между собою, поступали своекорыстно, обходились грубо с малолетним государем, – но ничего более мы не видим в их действиях. Мало того, перед Иоанном стояла не только древняя удельная дружина; в эту дружину вошли князья, потомки Рюрика, и удельные княжеские воспоминания бесспорно должны были иметь здесь свое место. Но и тут (и это составляет особенность русской истории) мы нигде не видим попытки возвратиться назад на деле. Рюриковичи, окружавшие престол во время малолетства Иоанна, нисколько не думали о возвращении своих удельных прав; а, кажется, время было как нельзя более удобно. Бывшие так недавно удельные князья довольствуются одними воспоминаниями, как Курбский, – и только. Возможность действительного удельного права тогда уже ограничивалась необходимо тесным кругом, семейством Великого Князя Московского; там еще оно признавалось самим государем, – и потому двоюродный брат великого князя, князь Владимир Андреевич, еще имеет удел, еще помышляет о великокняжеском и царском престоле, мимо своего племянника. Но и здесь, где еще сама власть государя хочет признавать удельное устройство, чувствуется, что это бессильный остаток разрушенного прошедшего, одна тень минувшего, остальная засыхающая ветвь подрубленного дерева. Скоро исчез и этот последний слабый след удела. Удельные воспоминания должны были, однако, внести новую горечь в то тяжелое чувство, которое бесспорно охватывало бояр. Но повторяем: боярство вовсе не вело действительной борьбы. Одна идея дружины, отвлеченная и молчаливая, стояла перед царским троном, – и она-то беспокоила Иоанна. Мы готовы скорее принять, что не в малолетство Иоанна, а в эпоху Сильвестра и Адашева дружина или совет боярский получил значение, но получил он значение вследствие нравственного преобладания над Иоанном, хотя бы, может быть, посредством разных устрашений, о которых он сам говорит. Но как скоро Иоанн рванулся на иной путь, то он не встретил никаких препятствий, никакого сопротивления; он рубил и терзал бояр, сколько хотел: а они шли кротко на казнь, некоторые только позволяли себе бегство.
Не можем не сделать еще двух замечаний. Автор говорит о боярах (смотри наши выписки): «Но вместо того народ увидал в них людей, которые остались совершенно преданы старине и в том отношении, что считали прирожденным правом своим кормиться за счет вверенного им народонаселения и кормиться, как можно сытнее». Часто повторялось с ужасом это слово кормиться, понимаемое в современном разговорном значении, без исследования исторического, – и публика думала, что боярин, отправляющийся кормиться, берет что хочет, что все имущество вверенного народонаселения предоставляется ему по праву, в полное распоряжение. Но таково ли было дело, каким кажется теперь слово? То ли значило прежде кормиться, что так наивно и легко подразумевают теперь под этим словом? Знакомство с памятниками показывает нам совсем другое. Поэтому мы не можем не удивиться, как ученый автор, столь близко знакомый с источниками, употребляет слово: кормиться, кажется, почти в таком же смысле, в каком употребляется оно людьми, знакомыми с русской историей по слухам или поверхностно. Кормление не было произвольно, оно было определено со всей точностью. Это было то же жалованье, какое и теперь, жалованье, строго определенное, но только получаемое натурой (а если бы хотел кормленщик, то и деньгами), и получаемое не из рук государства, а прямо из первых рук народа. – Кормленщик не мог потребовать ничего более того, что было ему назначено правительством. Итак, мы столько же можем приходить в ужас от слова кормиться, сколько от слова получать жалованье. Наши слова доказываются многими уставными грамотами, в которых подробно говорится, сколько должно давать корму, – а более того брать не позволяется. Выписываем из одной уставной грамоты 1506 года: «На въезде волостелю кто что принесет, то ему взяти, а на Рождество Христово дадут волостелю корм со штиж деревень: полоть мяса, десятеро хлебов, мех овса, воз сена; а на Петров деня со штиж деревень дадут волостелю корм: баран, десятеро хлебов; а нелюб волостелю корм, и они ему дадут за полоть мяса десять денег, за барана алтын, за мех овса алтын, за воз сена алтын, за хлеб по денге. А тиуну его дадут корм, со штиж деревень на все те три праздники[5] в полы того; а праветчику его дадут побор с деревни: на Рождество Христово восемь денег, а на Велик день четыре деньги, а на Петров день четыре ж деньги, а доводчику его дадут побор с деревни: на Рождество Христово за ковригу деньга, за часть мяса деньга, за зобню овса две деньги, а на Велик день за ковригу деньга, за часть мяса деньга, а на Петров день за ковригу деньга, за сыр деньга. А те три кормы и поборы волостелю и тиуну и праветчику и доводчику, на весь год; а более того им иных кормов и поборов нет ни которых»[6].
Кажется, ясно. Мы выбрали грамоту древнее той эпохи, о которой говорит г. Соловьев, чтобы показать, в чем состояло это древнее право кормления. Но есть определения этого кормления гораздо древнее[7]. Указываем на подобную грамоту 1536 года. Вот, наконец, еще свидетельство: грамота Иоанна IV, 1556 г. В грамоте сказано:
«Пожаловал есми Матвея Мунзорина сына Хлуденева половиною ямским под Алабышем, Колобовым сыном Перепечина, в кормление; а наехати ему на свое жалованье велел в Благовещеньев день, лета 7064. И вы б ему дали доходный список с книг, почему ему то ямское ведати и пошлина своя сбирати, потому же, как прежние кормленщики то ямское ведали»[8].
Итак, вот что значило кормленье. Нам могут сказать, что этот способ жалованья, получаемого не прямо от правительства, – нехорош. Но это уже совсем другой вопрос, о котором мы здесь рассуждать не намерены. Нам скажут, что кормленщики не довольствовались положенной им мерой, а брали больше определенного; но это была уже личная вина кормленщиков: на это закон им права не давал. Это было уже злоупотребление, осуждаемое законом и устройством древней Руси. Злоупотребление бывает всегда везде, со всяким справедливым законом. Рассматривайте же кормленщиков-грабителей не как пользующихся правом, а как нарушающих право кормления. Тогда вопрос будет поставлен верно и совершенно иначе. Не может быть, чтобы г. Соловьев, ученость которого известна, не знал этих грамот; он, вероятно, хотел сказать, что это право кормления представляло много удобства к его нарушению. Тогда это уже совсем другое, и речь должна пойти о том, какого рода закон представляет более удобств к его нарушению. Нам кажется, что это едва ли не все равно, и человек, в котором в самом нет внутреннего закона совести, всегда, как скоро захочет, без труда может нарушить закон государственный. Примеры тому видели и видят все народы. Мы пишем наше объяснение кормления не для г. Соловьева (он в том, конечно, не нуждается), а для множества несостоятельных судей о древней Руси, которые тем резче судят о ней, чем менее ее знают.
В самом деле, просвещенный мир едва ли представлял что-нибудь подобное тому легкомыслию, с которым отзываются у нас о древней России. В этом легкомыслии много детского, много похожего на желание казаться большими, к которому так склонны дети, не замечая, что в эту минуту они всего более дети. Это легкомыслие показывает, что мы все еще не привыкли к европейскому фраку, и все еще рады ему, как дети, которым только что повязали галстучек. – Похожее нечто представляют нам также люди, вышедшие в знать и стыдящиеся среды, из которой они вышли, в то время как она, может быть, возвышеннее и благороднее их блестящего знакомства. Право у нас похвалить древнюю допетровскую Русь боятся, как mauvais genre… Нет, это не просвещение! Это-то полупросвещение, которое научает только поднимать спесиво голову над всем, что к этому полупросвещению не подходит, и нагибать голову перед всем, что считается авторитетом. Но мы невольно увлеклись в сторону: обратимся к предмету.