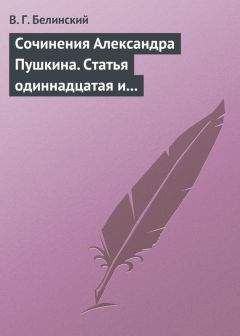Пробыв у нас около часа после обеда, весьма разговорчивым, веселым и без малейших странностей, он отправился в коляске в лагерь и там отдал следующий приказ:
«Первый полк отличный; второй полк хорош; про третий ничего не скажу; четвертый никуда не годится».
В приказе полки означались собственным именем каждого; я назвал их нумерами. Не могу молчать, однако, что первый нумер принадлежал Полтавскому легкоконному полку.
По отдании этого приказа, Суворов немедленно сел на перекладную тележку и поскакал обратно в Херсон.
Спустя несколько месяцев после мирных маневров конницы и насмешек над пожилою госпожою на берегах Днепра, – Польское королевство стояло уже вверх дном и залитая кровью Прага курилась.
Один из друзей Давыдова и наших литераторов сделал очень остроумное и правдоподобное объяснение для оправдания пророчества Суворова насчет трех побед, которые должен был одержать Давыдов. Приведенный нами пример прозы Давыдова очень основательно может быть принят за представителя одной из блестящих побед его, напророченных Суворовым. Но обратимся к жизни Давыдова и поищем в ней объяснения двух последних его побед.
До тринадцатилетнего возраста Давыдов учился болтать по-французски, танцевать, рисовать и музыке и повершил свой курс образования с арапником в руках, в отъезжем поле. Между порошами и брызгами, живя в Москве без дела, он познакомился с некоторыми молодыми людьми, воспитывавшимися тогда в Университетском пансионе, и, благодаря им, прочел альманах Карамзина «Аониды». Знакомые имена под некоторыми статейками зажгли его честолюбие и заставили приняться за авторство. Очень интересен его первый опыт в поэзии:
Пастушка Лиза, потеряв
Вчера свою овечку,
Грустила и эху говорила
Свою печаль, что эхо повторило:
О милая овечка! Когда я думала, что ты меня
Завсегда будешь любить,
Увы! по моему сердцу судя,
Я не думала, что другу можно изменить!
Историческая строгость требует заметить, что это стихотворение стоило Давыдову больших трудов и большого поту.
В начале 1801 года (то есть семнадцати лет) отправили Давыдова в Петербург на службу. Малый рост препятствовал ему вступить в кавалергардский полк без затруднения; однако ж (говорит «Очерк») наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и трехугольною шляпою. – Таковым чудовищем спешил он к двоюродному брату своему А. М. К-му, чтобы порадовать его своею радостию.
Но тут его ждало одно из тех благодетельных разочарований, которые, потрясая до основания даровитые и самолюбивые натуры, вызывают наружу все их силы и указывают предназначенный им путь. Кому не дано от природы, в том и самые благоприятные обстоятельства ничего не откроют; но богатая натура пробуждается к сознанию иногда от самых пустых внешних случаев. Вместо изъявления восторгов и поздравлений, родственник осыпал Дениса язвительными насмешками, указав ему на его решительное невежество. Тогда Давыдов принялся за военные книги и скоро пристрастился к их чтению. В промежутках дежурств своих, в казармах, в госпитале, на столике больного, на солдатских нарах, даже в эскадронной конюшне – беседовал он с музами и писал сатиры и эпиграммы, которыми начал свое литературное поприще.
В 1804 году Давыдов принужден был выйти в Белорусский гусарский полк, стоявший тогда в Киевской губернии.
Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурки до упаду. В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полячка, и сочинил известное приглашение на пунш Бурцову, который служил с ним в одном полку и который, получив удалое послание, не мог читать, потому что сам писал мыслете.
С 1806 по 1815 год Давыдов участвует во всех войнах и кампаниях. Во время войны с шведами он неотлучно находился при авангарде знаменитого Кульнева. При начале великой войны 1812 года Давыдов поступает в Ахтырский гусарский полк подполковником и до битвы под Бородиным командует первым батальоном этого полка. Тут он подает мысль о выгоде партизанского образа действования и с 130 гусарами и казаками отправляется в тыл неприятеля и средину его обозов, команд и резервов; действует против них десять суток и, усиленный шестьюстами новых казаков, сражается несколько раз в окрестностях и под стенами Вязьмы; разделяет под Ляховом славу с графом Орловым-Денисовым, Фигнером и Сеславиным, разбивает трехтысячное кавалерийское депо под Копысом, рассевает неприятеля под Белыначами и продолжает веселые и залетные свои поиски до берегов Немана. Под Гродно нападает он на четырехтысячный отряд Фрейлиха, составленный из венгерцев, – Давыдов в душе гусар и любитель природного гусарского напитка: за стуком сабель застучали стаканы и – город наш!
За этим последовало кратковременное затмение счастия Давыдова; поступив под начальство генерала Винценгероде, пройдя с ним через Польшу, Силезию и вступив в Саксонию, Давыдов рванулся вперед и занял половину Дрездена, защищенного корпусом Дюрюта. За такую дерзость он лишен был команды и сослан в главную квартиру; но справедливость царя-покровителя была защитою беспокровного, – и Давыдов снова является на похищенное у него поприще. Во Франции он командует в армии Блюхера Ахтырским гусарским полком, а потом бригадою, составленною из Ахтырского и Белорусского гусарских полков, с которыми он проходит чрез Париж. За отличие в сражении под Бриеном он производится в генерал-майоры.
Вскоре после того Давыдов получает отпуск в Москву, где и предается исключительно литературным занятиям. В 1819 он вступает в брак, а в начале 1823 выходит в чистую отставку.
Со вступлением на престол ныне благополучно царствующего государя императора, Давыдов принимает участие в персидской кампании и является на той единственной пограничной черте России, которая еще не звучала под копытами его коня. Вырвавшись из объятий милого ему семейства, – через десять дней Давыдов уже за Кавказом; еще несколько дней – и он за громадою Безобдала преследует с своим отрядом отступающего от него, по Бамбакской долине, неприятеля; наконец, еще одни сутки – и он у подошвы заоблачного Алагёза поражает четырехтысячный отряд известного Гассан-хана и принуждает его бежать к Эриванской крепости.
Кавказский климат не был благоприятен здоровью Давыдова и заставил его возвратиться в Россию. До 1831 года он живет в своей приволжской деревне и пользуется всеми наслаждениями мирной, уединенной и семейственной жизни.
Обстоятельства 1831 года снова вызвали Давыдова на военное поприще. Для его деятельной, кипучей натуры гром оружия был так же обаятелен, как и стук пуншевых чаш в приятельских беседах: он не мог владеть собою, слыша тот или другой. Но польская кампания, в которой Давыдов отличился не одним блестящим делом, была его последнею кампаниею: откройся теперь война, – и уж Давыдов, почуяв бой, не помчится вихрем из первых на ратное поле: но это потому только, что Давыдова уже нет в живых…
В литературной деятельности Давыдов таков же, как и в военной: и в службе муз он был только лихим наездником и действовал не массами войск, как полководец, а летучими партизанскими отрядами, и притом быстро и неожиданно. Стихотворения Давыдова не подлежат суду философской критики: они не суть явления того искусства, которое высокие идеи воплощает в живые, вечно юные и вечно прекрасные образы; их нельзя назвать художественными, – и Давыдов, действуя в сфере самого искусства, действовал в другой и для другой сферы. Он был поэт в душе; для него жизнь была поэзиею, а поэзия жизнью, – и он поэтизировал все, к чему ни прикасался: в его стихах преужасные пуншевые стаканы и чаши не оскорбляют образованного чувства, но звучат весело и отрадно; облака табачного дыма не выедают глаз, не першат в горле, но вьются резвыми, кудрявыми кругами; ярко светит полоса гусарской сабли, которая служит лихому наезднику вместо зеркала и помогает ему расправлять широкий ус. Все, что у других так пошло, приторно, безвкусно, оскорбительно для чувства, словом – все эти лагерные замашки, казарменное удальство, чем потчуют нас многие поэты, особенно господа сочинители повестей и романов, в главе которых стоит, впрочем, весьма небесталантливый Марлинский, – все это у Давыдова получает значение, преисполняется жизнию, облагораживается формою. Буйный разгул превращается у него в удалую, но благородную шалость; грубость – в откровенность воина; отчаянная смелость иного выражения, которое не меньше читателя и само удивлено, увидев себя в печати, хоть иногда и скрытое под точками, – становится энергическим порывом могучего чувства, которое, сознавая свое достоинство, не заботится об условном приличии, но хлещет чопорную пошлость и ничтожество прямо по лицу и чем попало. Вся эта сторона поэзии Давыдова, которую мы здесь старались выставить на вид читателю, колко и могуче выказалась сама в его превосходной «Исповеди гусара»: