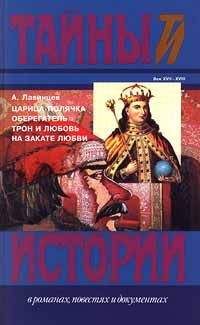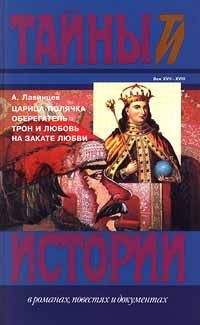На 3-е. Тайная канцелярия хотя весьма давно и суще ежели не при Августе, то при Тиберии, наследнике его, для безопасности монарха вымышлена, и оная, если токмо человеку благочестному поручится, нимало не вредна; а злостные и нечестивые, не долго тем наслаждался, сами исчезают, как всех, так таких по истории прежних и при нас бывших видим.
Вторая записка Татищева заключает в себе мнение его о некоторых частях государственного и общественного благоустройства, по поводу «росписания правительств», составленного тогда в сенате. Любопытно начало его записки.
Как я оное прилежно рассматривал, то я не мог не дивиться тому, что оное хотя большею частию мудрости политической и науке географии принадлежит, токмо все оных правила нахожу презрены, а чрез то необходимо нужно было приключиться недостаткам и погрешностям.
Непристойно бы и весьма продерзко было, если бы я хотел себя умнее тех почитать, от которых повеление о том было, то есть: сенат правительствующий, ведая довольно, что и при первом росписании губерний, провинций и городов в сенате были люди достаточные и мудрые; вина же та приключилася от следующих причин: 1) Описания достаточного и ландкарт исправных не было. 2) Сами во всех пределах не бывали, а знающих обстоятельно расспросить времени не имели; ибо все имели особливые правления и многими делами были отягчены. 3) Как большею частию из сенаторов и сильных людей в губернаторы были назначены, – так по властолюбию или любоимению, несмотря ни на порядок, ни на пользу, города и провинции в свою власть захватывали, кто которые хотел, что мне доказует князь Меншиков: Ярославль для богатого купечества, Тверь для его свойственников, в посаде бывших, приписал к С.-Петербургу; Гагарин – Вятку и Пермь к Сибири, и пр. 4) Оное поручено было более секретарям, которые хотя вышеобъявленных наук не слыхали, но к собранию богатств весьма хитрые; оные довольно при сем росписании свою пользу хранили и после города, по щедрым просьбам, из одной провинции в другую переписывали.
И затем – мы имеем дело с молодой редакцией. Впрочем, нет еще: старой, самой старой из старых должны мы приписать помещение стихотворения г. А. П.{13} «Из Шиллера», которое начинается следующими стихами:
Красотой ты возгордилась,
Своим личиком – стыдись…
К старой же, а если не к старой, то уж и не к молодой редакции нужно отнести стихотворение г. Хомякова: «Благочестивому Меценату». Это стихотворение обращено к какому-то мудрому другу, который с прибрежья царственной Невы кротко обращает очи на темные главы г. Хомякова и его друзей. Этот друг испил до дна кубок ленивой роскоши, но подчас поощряет их на подвиг речами небрюзгливой ласки. За круговой чашей он хвалит их строгий пост и простой быт плебейской веры. За эти качества г. Хомяков просит его принять привет от темной черни людей им взысканных, и приношения скромной дани благодарственных речей их. В заключение поэт желает, чтобы крылья бури не смущали лазури безоблачных высот Мецената, чтобы мысль не тяготила его главы железною рукою и чтобы вечно цвел весною румяный пух ланит его.
Счастлив будет тот, кто поймет, что означает это стихотворение, так явно презирающее здравый смысл и всякую толковость в выражении мысли. Признаемся, мы не добились такого счастия: мы не могли понять, как это пух может цвести, мысль – тяготить главу железною рукою, крылья – смущать высоту и лазурь, и т. п. [4] Мы даже подумали было, что эти стихи – пародия; но на что же пародия? Разве на знаменитого автора «Юродивого мальчика, взыгравшего в садах Трегуляя»{14}.
Но, несомненно, молодой редакции принадлежат стихотворения и повести гг. Колошина и Алмазова. Впрочем, прежде чем мы коснемся практики этих господ, мы должны познакомиться с новым выражением их теории – в статьях критического содержания. Таких статей в «Утре» три: о поэзии Пушкина, о литературе 1858 года, о Щедрине. К ним можно прибавить предисловие, о котором мы уже упоминали, и размышления г. Колошина «По поводу (!) американской женщины», очень похожие на предисловие по своему удивительному тону и по непримиримой вражде к Североамериканским Штатам. В этой вражде сходятся, так сказать, начало и конец «Утра», потому что по поводу американской женщины г. К – н рассуждает в самом конце сборника. Таким образом, на первых страницах в предисловии говорится, что Американские Штаты – ряд лавок и складочных мест, ватага искателей приключений, не более, – и заповедуется следующее: «Не смотрите на Америку, или смотрите, да смотрите трезво и – содрогайтесь пред поучительным образчиком» (стр. 12). В последней же статье книжки выставляются с особенной любовью «нелепые стороны американского миросозерцания относительно женщины» и «вопиющий абсурд блумеризма»;{15} заключительные слова сборника те, что «рассказы об Америке не раз приводили нам на память меткое слово о Новом Свете одного известного русского публициста, двадцать лет тому назад сказанное: «Яровой пшеницы между государствами, видно, не бывает»«(стр. 434 и последняя, последние строчки).
Таким образом, альфа и омега «Утра» – ненависть к Америке и ео ipso [5] (как выражаются сотрудники того же «Утра») – любовь к родине, то есть к Москве. Ничто, по их мнению, так не противоположно Америке, как Москва: там, видите, паровая выводка народности,{16} а здесь настоящая огородная народность; там польза и утилитаризм, а Москва постоянно «ведет борьбу против заразительного принципа утилитарного поветрия», – и в доказательство своего мнения о принципе поветрия (твердый, должно быть, принцип!) предисловие приводит одно из важнейших исторических событий, которое, по его собственному признанию, «имеет для него глубокое значение» и на котором оно «останавливается с любовью».
«Укажем, – говорит предисловие, – на один факт, поясняющий наш взгляд на Москву. Давно ли у нас стали плодиться журналы, а в Петербурге (по вычислению, за которое мы обязаны «Современнику» [6]) в 1858 году уже выходило двадцать девять уличных листков,{17} которых единственным побуждением (побуждением листков? и к чему?) была торговая спекуляция не выше и не ниже открытия харчевни близ места, где бы вдруг должна была сойтись толпа рабочего народа (?!). В Москве до сегодня нет, кажется, ни одного подобного предприятия, и мы уверены, что не будет».
Какая сила мысли! Какая логическая последовательность! Теперь, – кажется, нет; а в будущем – наверное не будет. Это очень хорошо, и после такого образчика логики предисловия мы уже нимало не удивляемся, когда оно восклицает в заключение: «Как ни незначителен факт с виду, для нас он имеет глубокое значение, и мы останавливаемся на нем с любовью». Очевидно, что и здесь предисловие руководилось той же самой логикой: «Кажется, этот факт не имеет значения, но мы уверены, что он имеет глубокое значение». Славная логика в предисловии: как будто над ним трудились общими силами – и старая и молодая редакция!
Из любви к Москве, как противнице утилитаризма, проистекает в «Утре» защита теории искусства для искусства. До сих пор нигде, кажется, не было (и мы уверены, что не будет) так резко выражено последнее слово этой прилизанной теории, как в статьях «О поэзии Пушкина» Б. Алмазова и «О литтературе 1858 года» Б. А. …Толки об «искусстве для искусства» идут уже давно в русской литературе, но приверженцы чистой художественности так смутно, сбивчиво и разноречиво высказывали обыкновенно свои мнения, что не мудрено, если многие из читателей остаются до сих пор в недоумении относительно настоящего значения теории «искусства для искусства». Поэтому мы скажем о ней здесь несколько слов, прежде чем будем говорить о мнениях г. Алмазова.
Под теориею чистой художественности или искусства для искусства разумеется вовсе не то, когда от литературных произведений требуется соответствие идеи и формы и художественная отделка внешняя; к этой теории вовсе не принадлежит то, когда в писателе хотят видеть живую восприимчивость и теплое сочувствие к явлениям природы и жизни и уменье поэтически изображать их, переливать свое чувство в читателя. Нет, такие требования предъявляет всякий здравомыслящий человек, и только на основании их всякая, самая обыкновенная критика произносит свой суд о таланте писателя. Требования поборников «искусства для искусства» не те: они хотят – ни больше, ни меньше как того, чтобы писатель-художник удалялся от всяких жизненных вопросов, не имел никакого рассудочного убеждения, бежал от философии, как от чумы, и во что бы то ни стало – распевал бы, как птичка на ветке, по выражению Гете,{18} которое постоянно было их девизом. Остаток здравого смысла не дозволял, однако же, поклонникам чистой художественности высказывать свои требования слишком прямо и бесцеремонно. У них доставало рассудка, чтобы сообразить, что их требования, если их выразить без всяких прикрытий, будут смахивать на требование от писателя того, чтобы он весь век оставался круглым дураком. Поэтому они до сих пор старались смягчать свою теорию разными ограничениями и поэтическими обиняками; а противников своих старались выставить кулаками и если не Чичиковыми, то по малой мере Собакевичами, которые не умеют понимать ничего прекрасного и не имеют высокой страсти ни к чему, кроме приобретения материальной пользы. Благодаря таким эволюциям мнения их получали вид довольно приличный и обманывали даже многих людей не совсем глупых.