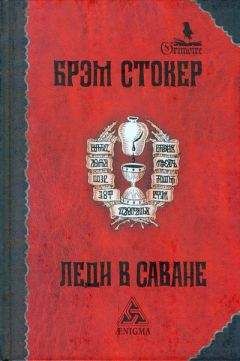И потому его трудно читать, как трудно жить. Он воплощает собою ночь русской литературы, полную тягостных призраков и сумбурных видений. Ночь объяла Достоевского, и страшно грезил, и безумно бредил этот одержимый дух. Солнце заглядывало в его произведения, чтобы осветить умиление, чистую любовь Лизы к Алеше Карамазову, «детей играющих, возлюбленных детей», их «вечно бегущие ножки» – но оно скоро уходило, и еще тяжелее и гуще опускалась тьма. Достоевский, помимо всего прочего, – замечательный карикатурист; он очень способен к остроумию и шутке, и порою они вспыхивают у него радостными, сверкающими искорками; он умеет быть ласковым и шутливым, он любит этого милого, задорного мальчика Колю, который великодушно заявляет: «Напротив, я ничего не имею против Бога», или этого девятнадцатилетнего прогрессиста Сашеньку, который хочет жениться на Наденьке и, как честный человек, собирается ее обеспечить: получая на службе в конторе двадцать пять рублей в месяц, он в самый день свадьбы выдает невесте вексель на себя в сто тысяч рублей… – но гаснут и они, эти светлые искры, и остается лишь тяжкий юмор над бездной, и если рассказывается анекдот, то непременно скверный, и если раздается музыка, то это играет скрипач над трупом своей жены. Достоевский все отравляет, он все губит кругом себя, и потому так мало вокруг него природы, зелени, что она блекнет и чахнет от его проклятого приближения.
Но трагедия пушкинского анчара, который в пустыне чахлой и скупой стоит один во всей вселенной, заключается в том, что он не только других убивает своим ядом, но и сам, первый, изнывает от него в своем страшном одиночестве. Так и Достоевский, бичуя нас огненными змеями своего злого дарования, терпит и сам от своих зрелищ невыносимую пытку, восходит и сам на костер своих жертв. Мучитель и мученик, Иван Грозный русской литературы, он казнит нас лютой казнью своего слова и потом, как Иван Грозный, живой человеческий анчар, ропщет и молится, и зовет Христа, и Христос приходит к этому безумцу и мудрецу, к этому юродивому, и тогда он плачет кровавыми слезами и упоенно терзает себя своими веригами, своими каторжными цепями, которые наложили на него люди и которых он уже и сам не мог сбросить со своей измученной души. Вспомните его бледное, изможденное лицо, в чертах которого затаились больные страсти, эти горящие глаза, полные муки и мучительства, и вы еще более убедитесь, что в его собственной личности произошла та роковая встреча Христа с Великим инквизитором, о которой он рассказал в знаменитой легенде. В нем самом, в его бездонной душе боролись за него Бог и Диавол. Доброе и злое сплетались в нем так тесно, как ни у кого из людей. Он жаждал замирения, хотел тишины, он над Евангелием склонил головы убийцы и блудницы, плакал над тем страданием, которое он же вызвал из жизни и сгустил в ядовитый туман. Но, охваченный жалостью, он все-таки, однажды испытав страдание, возлюбил его изуверской любовью, не мог без него обходиться. Если бы оно исчезло из его внутреннего мира и мира внешнего, он был бы еще несчастнее, чем был, и он не знал бы, что делать с собою, о чем писать. Это, конечно, далеко от кротости; в этом – гордыня и зло. Христос не хотел крестной муки и молился, чтобы Его миновала горькая чаша. Достоевский об этом не просил; он знал какое-то сладострастие страдания и жадно припадал к гефсиманской чаше, извиваясь от боли. Торквемада, великий инквизитор собственной и чужой души, он исповедовал, что «человек до безумия любит страдание», что, «кроме счастья, человеку, так же точно и совершенно во столько же, необходимо и несчастье». Он воплощает собою инквизиционное начало мира, тот внутренний ужас, который только и порождает все боли и терзания внешние. Но, весь сотканный из противоречий, болея ими, творец «Бесов» не только нуждался в страдании и жег себя на его медленном огне, он и страстно ненавидел его. А ненависть должна питаться, и поэтому он не может разлучить себя с ее предметом. И стоит оно, страдание, перед ним неотразимое, непобедимое, человеку нужное, человека давящее. Раскольников в лице Сони поклонился не ей, а всему страданию человеческому – Достоевский не хочет ему кланяться умиленным поклоном: он мстит ему японской местью, он с открытой грудью идет ему навстречу, – и впиваются змеи в эту грудь, и не щадит ни себя, ни близких новый Лаокоон.
Оттого на всем его творчестве и лежит глубокий отпечаток двойственности и разлада. Достоевский порождает в читателе нестерпимую жалость, от которой разрывается сердце; он с неотразимой человечностью рисует бедных людей, забитые души, униженных и оскорбленных. И эта оторвавшаяся пуговица на вицмундире Макара Девушкина, эта нужда беспросветная, одуряющая, безнадежная, эти жалкие, оскорбительные жилища, оскорбительные для человеческой души, которая должна в них дышать; этот старик Смит со своей внучкой Нелли, со своей собакой Азоркой, голодные, холодные, обиженные; эта девушка Оля из «Подростка», которая повесилась от недоверия к миру, к обманывающим людям и которую мать все же ищет по улицам, робко всматриваясь в проходящих девушек, – не случится ли чудо, не воскреснет ли дочь; эта драдедамовая шаль Сони Мармеладовой – все это составляло бы уже предельную грань и человеческого несчастия, и сострадания к нему, если бы за нею не виднелись еще излюбленные «маленькие герои» Достоевского – страдающие дети, те, кто по преимуществу не должен бы страдать, те, «через кого душа лечится». Нешалящие, неслышные дети, тихо удивившиеся горестной жизни и так и оставшиеся безмолвно удивленными; этот мальчик, затравленный собаками; эта девочка, которая жестом взрослого отчаяния ломает себе руки, та самая, на чьем страдании Иван Карамазов не хотел бы построить грядущего счастия вселенной; эта девочка-проститутка, которую видел Достоевский в Лондоне и которая приснилась Свидригайлову в его предсмертном кошмаре; эти стоптанные старенькие сапожки, с заплатками, умершего мальчика Илюши Снегирева, – их увидев перед опустевшей постелькой, отец так и бросился к ним, сапожкам без ножек, пал на колени, схватил один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно целовать его, выкрикивая: «батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои где?»; этот другой мальчик, который утопился, потому что он разбил чужую фарфоровую лампу, но, прежде чем броситься в воду, загляделся на ежика в руках у девочки; и этот мальчик, замерзающий у Христа на елке; и эта девочка, на глазах у которой вешается мать, не выдержавшая истязаний мужа, и которая говорит ей: «мама, на что ты давишься?» и другие, и еще другие, и без конца, и в ужасающем разнообразии все это, страдающее без вины, наказанное без преступления, причиняет читателю почти физическую, острую боль, от которой излечишься только слезами, и больше, чем все писатели, собрал Достоевский горькую дань человеческих слез…
Однако он не щадит не только сострадающего, но и самого страдальца. Он заставляет его бередить свои раны, растравлять свою душевную скорбь. Наш человечный писатель свою человечность нередко обращает острым концом. Он любит показывать, как люди, пережив глубокое унижение и обиду, с мучительным наслаждением, с какою-то подлостью лелеют их и еще сильнее, еще сосредоточеннее терзают себя или прикрывают свою боль шутовством. Как они говорят!.. «Чрезвычайная минута судьбы моей»… «утолить благородное нетерпение благороднейших литературных чувств вашего превосходительства»… Достоевский много внимания отдал человеку-шуту и выискивает почти в каждом черты презрительного Терсита, или ростовщика, или палача и в этих поисках забирается в самые сокровенные изгибы чужого духа. Он пьяного чиновника Мармеладова написал так, что Мармеладов отказался бы от его и нашего сочувствия, лишь бы он его не трогал, не обнажал, не заглядывал ему в сердце с таким проникновением и с таким дерзновением, на которое человек по отношению к человеку не имеет права. Есть граница, которой не должна переступать и самая жалость. Разве можно так нецеломудренно выворачивать чью бы то ни было душу? И в том, кто, не щадя стыда и наготы своего брата, осмеливается на это, разве можно провести определенную грань между его любовью и его злобой? И вообще, простит ли человечество Достоевскому то, что он так осквернил человека? И в его психологическом анализе, в этих затейливых арабесках, которые иногда морально утомляют, нет ли чего-то самодовлеющего, праздного, чего-то безнравственного?..
Он так несчастен в своей прозорливости, что почти не в силах понять, как можно любить ближнего. Для любви ему необходимо расстояние. Каждый для него облечен в тайну, которую Достоевский, на горе себе, прозревает. В жизни и в душе у всякого, в биографии и помыслах, где-то в тайниках сознания есть дурное, постыдное, какой-то нетопырь, который вылетает по ночам. В каждом есть секрет, происходит моральное раздвоение, за каждым следует его двойник, и мир содрогнулся бы, если бы люди всецело раскрыли свое существо. И вот, прежде всего замечая это нравственное подполье, зоркий свидетель мрака, как мог Достоевский в одной любви и любовном умилении растворить свою грехами изборожденную и греха взыскующую душу? Он хотел бы и сам быть уже и более узкими видеть других. Его угнетала человеческая широта (особенно в русской натуре подмечал он ее), та трагическая широта, при которой в одном и том же сердце совмещаются идеал Мадонны и идеал Содома, которая дает подняться на светозарные вершины, где сияет чистейшей прелести чистейший образец, где совершается молитва перед Мадонной, перед иконой, и которая оттуда же сразу, насмешливо и грубо, низвергает в такую бездну, где любовно, родственным объятием обнимают человека отвратительные гады и торжествует над ним природа извратившаяся, пошедшая против самой себя, естество, ставшее противоестественным, – потому что ведь наш автор-инквизитор думает именно о Содоме: не легкая или радостная чувственность горит в крови Свид-ригайлова и Ставрогина, не ликование молодого тела слышится в них, а зловеще вспыхивает «разожженный уголек». Для Достоевского огонь сладострастия, «паучьего» сладострастия, не был угасим, для него оно было геенна огненная, зажженная диаволами и, быть может, больше чем для кого бы то ни было, уготованная для него самого. О Wollust! о Holle! – восклицает и Шопенгауэр…