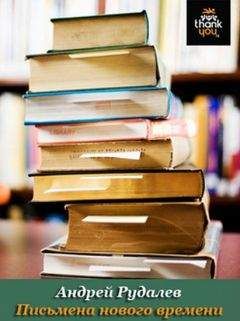Инстинкт самосохранения диктует: ты должен обмануть в первую очередь себя, свой организм, поверить в иллюзию. “Война научила их правильно питаться, и они зачерпывали рыбу по чуть-чуть, тщательно пережевывали: если есть долго, можно обмануть голодный желудок, создать иллюзию обилия пищи”, — пишет Бабченко. Человек подчиняется инстинктам, и они формируют вокруг него пелену миражей. Бойцы стреляют не по конкретным людям, а по домам, по селу целиком, по деревьям, в пустоту — все враг, вероятный противник. Все — и ничего, враг становится абстрактной категорией, ведь он невидим, то в одном, то в другом окне мерещится. Но рано или поздно ты сталкиваешься с реальной смертью, реальным “врагом” — и им вполне может оказаться ребенок.
Владимир Маканин в рассказе “Кавказский пленный” как антипод войне выводит “красоту”. Он моделирует ситуацию, где красивое соседствует с уродливым, со смертью. “Красота постоянна в своей попытке спасти. Она окликнет человека в его памяти. Она напомнит”. Это то, что призвано спасти человека, не дать полностью войти в ту роль, которую навязывает война. Для человека невоенного, как Владимир Маканин, самое страшное на войне — не смерть, а то состояние, когда человек перестает быть человеком, теряет способность чувствовать красоту. У Бабченко красота нефункциональна, она отвлекает бойца, мешает адаптироваться к ситуации. Это обман, мираж, как тишина, в которой чувствуется всевластие смерти. Война умело маскируется, стремясь обмануть человека, именно поэтому она приобретает эстетические характеристики — сравнивается с женщиной, мимолетной возлюбленной. Красота таит опасность, ее присутствие настораживает: “Хорошо, — подумал он, — красиво. А ведь где-то там чехи. Где-то там война, смерть. Притаилась, сука, спряталась под солнцем. Ждет. Нас ждет. Выжидает, когда мы расслабимся, а потом прыгнет”.
Настоящая сущность войны — уродство, грязь, нечистота во всех ее проявлениях, постепенно обволакивающие все мироздание. Вспомним — у Виктора Астафьева в романе “Проклятые и убитые”: “Грязь, холод. Замерзшие нечистоты, которые каждый раз отдалбливают у входа в казарму”. Аркадий Бабченко пишет: “Слякоть стояла уже неделю. Холод, сырость, промозглая туманная влажность и постоянная грязь действовали угнетающе, и они постепенно впали в апатию, опустились, перестали следить за собой. Грязь была везде. Разъезженная танками жирная чеченская глина, пудовыми комьями налипая на сапоги, моментально растаскивалась по палатке, шлепками валялась на нарах, на одеялах, залезала под бушлаты, въедалась в кожу”. У Захара Прилепина тоже часты описания непогоды, та же грязь на каждом шагу: “В Грозном начался дождь. Лупит по крыше “козелка”. Я выставил руку в окно, по руке течет вода, размывает грязь”. Война как грязь, болото — вязкое, то, что навсегда засасывает человека и уже не отпускает. Все остальное — иная реальность, находящаяся за пределами понимания, не подвластная восприятию. Иное измерение, где красота не страшна, где дарят цветы, а не смерть.
Война — это не просто сон, а “идиотский сон”, “бред собачий” (Бабченко), у Захара Прилепина это “патологии”, у Карасева “видения” — армейские будни. Манифестацию ирреальности происходящего можно рассматривать как следствие напряженного конфликта между “своим” и “чужим”. Он “москвич, русский двадцатитрехлетний парень с высшим юридическим образованием”. Чужое — “нерусское поле, за тысячу километров от своего дома, на чужой земле, в чужом климате, под чужим дождем”. Ирреальное — то, что навязывается человеку: “автомат, эта рация, эта война, эта грязь”. С точки зрения идеально должного, интересов личности — это неправильность, не вписывающаяся в привычную норму “теплой чистой постели, аккуратной Москвы и нормальной, снежной, белой красивой зимы”. Положение человека на войне не вписывается в формат мирной жизни, вступает в конфликт с нормальной человеческой логикой.
Но в какой-то момент война входит в привычку и обретает черты реальности, к которой человек должен адаптироваться. Сама — воплощение ирреального, она, однако, дает возможность объективного взгляда, осознание ценности жизни. Чтобы выжить, человек должен научиться жить на войне, понять ее логику, а постигнув, задается вопросом: “Или сном была Москва, а он всю жизнь, с самого рождения вот так вот и трясся на броне, привычно упершись ногой в поручень и намотав на руку ремень автомата?”
Человек привыкает. Война перестает быть аномалией, становится рутинной работой с четким разделением ролей: “И война крутится вокруг, и ни черта не понятно, как обычно, и каждый делает свое дело: снайпер стреляет, вэвэшники воюют, они вытаскивают, снаряды рвутся, пули летают, раненый водила пошел пешком домой, как школьник после уроков, — и каждый варится в ней, в войне, и сейчас короткое перемирие, и нарушать его никому не хочется. И все так буднично, так обычно”. Экстремальная ситуация превращается в болото, поле — символ безжизненной местности, плацдарм, место, где всевластвует война. “А поле это ему не забыть никогда. Умер он здесь. Человек в нем умер, скончался вместе с надеждой в Назрани. И родился солдат. Хороший солдат — пустой и бездумный, с холодом внутри и ненавистью на весь мир. Без прошлого и будущего”.
Переформатирование человеческой сущности совершается на глубинном, подсознательном уровне: “Это не страх, хотя и он бывает таким холодным. Это другое чувство, какое-то животное, оставшееся в генетической памяти от предков. Так, наверное, в ужасе замирает суслик, услышав рев льва и почувствовав мощь его глотки по колебаниям почвы”. Через первобытный инстинкт самосохранения, удивление, страх, чувство голода, человек проникается верой в реальность войны. Артем говорит своему сослуживцу: “Понимаешь, все это так далеко, так нереально. Дом, пиво, женщины, мир. /…/ Реальна только война и это болото. Я ж тебе говорю, мне здесь нравится. Мне здесь интересно. Я здесь свободен”. Происходит как бы “прошивка” сознания человека, он начинает верить: война — единственная реальность, основа всего.
Война поглощает человека не только внешне, она пробирается внутрь: “Ты навсегда во мне. Мы с тобой — одно целое. Это не я и ты, это — мы. Я вижу мир твоими глазами, меряю людей твоими мерками. Для меня больше нет мира. Для меня теперь всегда война”. Человек “с холодом внутри” осознает себя частью нового мироздания, новой космогонии, которая свершается на его глазах.
Он умер для жизни, для него нет ни прошлого, ни будущего, он пребывает всецело в настоящем, в одном едином моменте противостояния смерти, страху перед ней: “Главное — выжить. И ни о чем не думать. А что там будет впереди, один Бог знает”. Главенствует инстинкт самосохранения, животный ужас перед смертью; раздумья, как, впрочем, и страсти, оставлены на потом, им можно будет предаться дома, не раньше. Если нарушить данный себе зарок и думать о случайно убитой девочке, исход однозначен: в лучшем случае — пуля в висок. Бесстрастность позволяет солдату воспринимать войну как работу, которую он обязан выполнить. И, как говорится в таких ситуациях — ничего личного: “Он не испытывал никакой жалости к чехам или угрызений совести. Мы враги. Их надо убивать, вот и все. Всеми доступными способами. И чем быстрее, чем технически проще это сделать, тем лучше”.
На войне происходит постоянная борьба солдата и человека, их ощущений, их восприятия мира. На войне — два человека. Один мертв, другой жив, пока еще барахтается, сражается. Один слаб, другой неимоверно силен. Один подчинен чужой воле, другой — своей волей конструирует мир. Один несвободен, другой ощущает упоение свободой. Один будто во сне пребывает, другой познал единственную и истинную реальность.
Стирается разница между мертвыми и живыми, оголяется условность этих рамок, которые сводятся лишь к различию по признаку движение — статика. Человек силится из последних сил, во что бы то ни стало, это различие сохранить. Быть может, поэтому герой повести Бабченко так часто обращает внимание на глаза сослуживцев и случайно встреченных бойцов. В них отражается внутренняя опустошенность, растерянность. Он уходит в себя, пытается там схорониться, спрятаться от войны, от предельно враждебного внешнего мира. Это территория, которую он пытается сберечь для себя. Выдают глаза: “Его поразил тогда их взгляд — ни на чем не фокусирующийся, не вылавливающий из окружающей среды отдельные предметы, пропускающий все через себя не профильтровывая. Абсолютно пустой. И в то же время невероятно наполненный — все истины мира читаются в солдатских глазах, направленных внутрь себя, им все понятно, все ясно и все так глубоко по барабану, что от этого становится страшно. Хочется растрясти, растолкать: “Мужик, проснись, очухайся!” Мазнет по лицу зрачками, не фиксируя, не останавливая взгляда, не скажет ни слова и вновь отвернется, обнимая автомат, находясь вечно в режиме ожидания, все видя, слыша, но не анализируя, включаясь только на взрыв или снайперский выстрел”. Попадают на войну молодыми, выходят дряхлыми стариками: “В восемнадцать лет я был кинут в тебя наивным щенком и был убит на тебе. И воскрес уже столетним стариком, больным, с нарушенным иммунитетом, пустыми глазами и выжженной душой”.