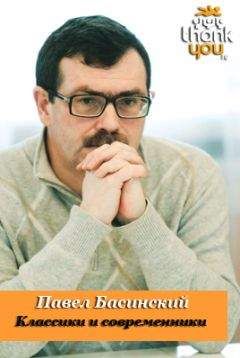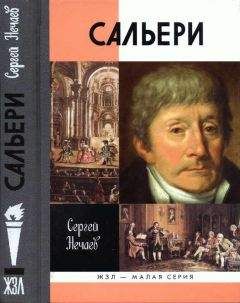«— Как-нибудь проживем?» — спрашивает героя его жена.
«— Проживем, — согласился я, и она удивилась, что я не стал спорить, даже засмеялся».
Кабаков, однако, не ограничился… Да и странно было бы требовать этого от писателя, не в самом юном возрасте преодолевшего перевал славы. В том, что это был именно перевал, а не пик, на котором стоит закрепиться, он, кажется, не сомневался. Во всяком случае, этот мотив станет основным в бесконечной авторской рефлексии, которая, в свою очередь, станет главной и чуть ли не единственной темой его творчества.
Вернемся к колонке в «Коммерсантъ-daily». Профессиональный «читатель газет» я просматриваю периодические выступления Кабакова в роли колумниста, скорее, по обязанности. И, тем не менее, каждый раз не перестаю изумляться этому загадочному явлению! Известный писатель, продающий свое перо газете ради заработка — дело понятное и не только извинительное, но и глубоко почтенное. Отчего не поговорить со своим читателем прямо — о том, что его волнует, что является содержанием ежедневной общенациональной жизни? Но для этого он должен, как минимум, обладать собственным мировоззрением. То, чего не требуется от журналиста, само собою ожидается от писателя. Его взгляд может быть высокомерным, скандальным, шокирующим общественное мнение. Или напротив — здравомыслящим, растолковывающим, умиротворяющим… Но газетный писатель, органически (если не сказать: патологически) презирающий всякое мировоззрение, больше того, всей своей интонацией словно подчеркивающий вопиющую необязательность собственных слов — это какой-то нонсенс!
Однажды НТВ учинило Москве легкую нервотрепку в связи со скандальным фильмом Скорсезе о Христе. В том, что нервотрепка относительно удалась, я убедился лично: в нашем микрорайоне какой-то герой на время показа фильма отключил рубильник. Ровно на три часа — так, что не успел разморозиться холодильник, а я остался в неведении относительно итальяно-американской крамолы, ревностно защищаемой г-ном Парфеновым. Тем не менее, в ситуации с фильмом Скорсезе в России что-то было, какой-то намек на действительные проблемы русского православия да и христианства в целом, и точки зрения газет на это событие меня живо интересовали. Смысл колонки Кабакова был примерно следующий. Все идиоты! Но главное — фильм-то дрянцо. И лучше бы — ничего этого не было. Ни НТВ, ни церкви, ни Скорсезе.
В последней прочитанной мной колонке Кабаков взялся порассуждать об Америке и России. Тема не бог весть какая свежая, но все-таки живая. И вновь я не расслышал ничего, кроме той же изумительной интонации. Россия дрянцо… И Америка дрянцо… Но кого-то угораздило родиться там, кого-то здесь. И тем, и другим крупно не повезло. Но — что поделать?
Вот, кажется, главный вопрос, который задает Кабаков своим творчеством. Не «что делать?», а «что поделать?» Что поделать, если угораздило родиться в идиотском конце идиотского века в идиотской стране, окруженной идиотскими странами, которые сдохли бы от скуки не будь этой идиотской России? Положительного ответа на этот риторический вопрос, разумеется, быть не может. Но может быть ответ отрицательный. Что поделать? Не быть писателем! Бесполезно или нет (в высоком смысле) это древнее ремесло, но оно — не бессмысленно по определению. Если человек взялся за перо, значит, некая воля этим руководила.
Вот с волей-то Кабаков с самого начала и просчитался. Тот странный факт, что его писатель в «Невозвращенце» описывал события как бы по заданию КГБ (неважно, что КГБ, тем более что и аббревиатура-то ни разу не названа, — важно, что по заданию какой-то секретной инстанции), в дальнейшем сыграл с автором злую шутку. Нельзя безнаказанно столь жестоко профанировать идею Божественного задания. Или Кабаков ничего не знал о мистицизме творчества? Или он слишком отчаянный игрок? В последнее хотелось бы верить. Но творчество Кабакова, увы, мало дает тому доказательств. Его игра с мистикой явно затмевается навязчиво демонстрируемыми авторскими комплексами по части собственной творческой состоятельности. И становится понятно, что секретные органы в «Невозвращенце» лишь трюк во спасение, отказ от полноценной художественной ответственности вчерашнего журналиста, вдруг вознамерившегося надеть венок сочинителя.
В сущности, в этом нет ничего плохого, как и в обратной смене вех (от писательства вернуться к журналистике). Если бы только кабаковский герой-автор (исповедальное «я») не был до такой степени озабочен своим статусом. Если бы сегодняшний писатель постоянно не озирался на вчерашнего журналиста, а дорогостоящий журналист не вспоминал столь подчеркнуто о своей писательской значительности. И литература, и журналистика — занятия живые, человеческие. Им вроде нечего делить.
Никто из наших писателей, как Кабаков, до такой степени не принуждает читателя всегда ощущать дыхание автора за своей спиной. В романе «Последний герой» он вдруг затевает нелепейшую переписку с собственным главным персонажем. При этом сам, кажется, чувствует ее нелепость. Персонаж скабрезничает, автор огрызается и пошло острит. Все это напоминает многолетне отрепетированный семейный скандал. Кто из них муж и кто жена? За автора неловко, героя начинаешь ненавидеть. Зачем-то автор перечисляет социальные слои своих читателей — словно оправдывается. Перед кем? за что? И опять инициаторами развития сюжета оказываются какие-то темные силы: какие-то «органы», какая-то «братва». «Братва» преследует героя, выживая из собственной квартиры. «Органы» опять засылают его в будущее. Но на этот раз Москва не погибает, а изнывает от тоски, сытости и благополучия. Беспорядки теперь происходят лишь на окраинах, но столица не желает об этом знать. Еще один «сценарий» — легко угадываемый, просчитываемый, как будто бы снова подтверждаемый, но только «как будто».
Важна не реальность прогнозов, но общее ощущение безнадеги. Что бы ни случилось — все будет скверно! И закрадывается сомнение: да полноте, о России ли тут речь? Не путешествуем ли мы по двум комнатам разума и психики самого автора? Но если так, заставь нас позабыть об этом! Создай свой собственный мир, но такой, чтобы в него поверили или, напротив, с радостью согласились обмануться. Не напоминай нам, пожалуйста, что мы находимся «в тебе». Мы читатели, а не психоаналитики.
Журнал «Знамя», напечатавший в 1995 г. «Последнего героя», крайне невыгодно для Кабакова поместил его рядом с повестью «Суер-выер» покойного Юрия Коваля. Я не большой поклонник прозы, уводящей из мира реального в мир фантастический (считаю, что реальность гораздо фантастичнее фантастики), но невозможно не восхититься той свободе и раскованности, с которыми Коваль создал и населил свой мир «из головы». Мне, в общем-то, плевать: реальны его герои или нет? Мне с ними хорошо, радостно, как в кукольном театре в детстве. Кукольник где-то за сценой; я слышу его голос, но не помню о нем. Кабаков не только не позволяет забыть о себе, но, кажется, больше всего на свете опасается, чтобы его читатель не «оторвался», не задумался, не зафантазировал сам по себе и не понял вдруг, что находится на премьере чрезвычайно плохо поставленной пьесы, о чем режиссер, впрочем, сам догадался еще на генеральной репетиции, но было слишком поздно.
В финале «Последнего героя» Кабаков графически рисует как бы мизансцену своего романа, тем самым визуально демонстрируя свой художественный метод. В глазах рябит от множества странных резонеров, своеобразных «критиков» романного действия, окруживших Героя и его Любимую плотной толпой, со всех сторон закрыв их от Зрителя. И напрашивается невольный вопрос: кто эти «критики»? Не сам ли автор, десятки раз перечитавший свой собственный роман?
Сравнение с Ковалем обнажает, пожалуй, главный ущерб прозы Кабакова. В ней страх перед реальностью прямо пропорционален недоверию к фантазии. В его прозе напрочь отсутствует творец — в религиозном ли, в художественном ли смысле этого слова. Его функции берут на себя либо какие-то загадочные темные силы (КГБ, «органы»), манипулирующие героями с неведомыми самим этим силам целями, либо постоянно «обнажающийся», вертящийся перед зеркалом, «женственный» автор, который и сам в точности не понимает: зачем это он взялся за перо?
Но было бы в высшей степени несправедливо сказать, что прозы Кабакова как явления в русской литературе последнего времени просто нет. Это явление. И притом — весьма значительное. Гораздо более значительное, чем совершенно неразличимая в своих духовных параметрах игра постмодерна. Проза Кабакова не снимает вопроса о Человеке, не избавляется от него как от проблемы заведомо неразрешимой и оттого бессмысленной. Больше того — она парадоксальным образом вопиет о ней. Она говорит о «последней черте» человека мыслящего, талантливого и не забывающего о своем природном человеческом достоинстве (этот мотив в прозе Кабакова очень силен), но органически не способного понять и принять общего направления движения мира.