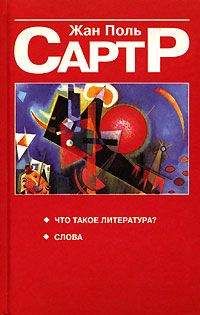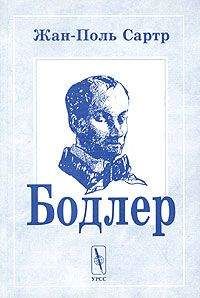Ознакомительная версия.
Согласен, что сегодня во Франции контактировать с трудящимися классами только через нее. Но отождествлять их дело с ее делом можно только по рассеянности. Как граждане мы можем в определенных ситуациях поддерживать ее политику своими голосами, но это не значит, что мы должны быть ей преданы своими перьями. Если действительно нужно выбирать только между буржуазией и ФКП, то выбор просто невозможен.
Писатель не должен писать только для класса угнетателей, но и не должен входить в партию, требую-щую недобросовестную работу с нечистой совестью.
Пока коммунистическая партия, почти невольно, выражает интересы целого угнетенного класса, кото-рый постоянно заставляет ее – угрозой "повернуть влево" – требовать мира во Вьетнаме или повышения заработной платы, от чего она пыталась уклонить– ся, – мы вместе с этой партией против буржуазии. Пока определенные буржуазные круги добровольно признают, что духовность должна быть и свободным отрицанием и свободным созданием, – мы с буржуазией против ФКП. Все объясняется тем, что склеротическая, оппортунистическая, консервативная идеология идет в разрез с самой сутью литературы. Получается, что мы сразу и против ФКП, и против буржуазии.
Вот в этом и проявляется то, что мы пишем против всех. У нас есть читатели, но нет конкретной читающей публики. По своей сути, мы оказались буржуа, порвавшими со своим классом, но имеющие буржуазные нравы. От пролетариата нас отделяет коммунистическая перегородка. Мы утратили аристократические иллюзии. Вот и получилось, что мы повисли в воздухе, и наши добрые намерения не нужны никому, даже нам.
Мы живем во время неуловимой публики. Самое плохое, что мы идем против истории. Писатели XVIII века шли в ногу с ней, потому что в перспективе исторического развития была революция. Писатель может и должен встать на сторону революции, если уверен, что по-другому нельзя прекратить угнетение. Но современный ни при каких условиях не может одобрять войну. Социальной структурой войны является диктатура, а ее результаты всегда непредсказуемы. Война во всех смыслах стоит гораздо больше того, что дает. Причина отказа писателя от поддержки войны еще и в том, что литература отчуждается, ее ставят на службу затуманиванию мозгов. Сейчас считают, что у нас в исторической перспективе война. От нас требуют выбора между англосаксонским и советским блоками. А мы вообще против подготовки войны. Мы в этом смысле выпали из истории и проповедуем в пустыне. У нас нет даже надежды победить в споре за призыв. Посмертная судьба наших произведений определяется не нашим талантом или нашими усилиями, а только исходом будущего конфликта.
В случае победы Советов нас обойдут молчанием, и мы умрем вторично. Если победит Америка, то лучшие из нас превратятся в музейные экспонаты истории литературы, и их уже никогда не прочтут.
Хорошее понимание самой мрачной ситуации само по себе оптимистично. Это значит, что мы не заблудились в ней, как в темном лесу, а можем хотя бы мысленно вырваться из нее, управлять ею. А это означает победу и способность самому принять решение, пусть даже самое отчаянное.
Сегодня все Церкви оттолкнули и отлучили нас. Искусство писателя оказалось загнанным в угол пропагандой всех мастей. Оно утратило способность влиять на людей. Именно в этот момент должна проявиться наша ангажированность. Это должно проявиться не в усилении требований литературы. Просто нужно отвечать всем требованиям одновременно, даже без особой надежды на успех.
Необходимо, во-первых, точно определить всех наших потенциальных читателей. Это те слои общества, которые нас не читают, но могут. Мне кажется, что нам не удастся глубоко проникнуть в преподавательскую среду. И это потеря для нас, потому что она могла бы стать посредником между литературой и массами. Но сегодня большинство преподавателей уже сделало свой выбор. Они преподносят ученикам христианскую или сталинскую идеологию. Это определяется позицией самого преподавателя.
Но есть и другие слои, которые еще колеблются. Вот за них нужно бороться. Довольно много писали о мелкой буржуазии. Она недоверчива, всегда легко клюет на крючок и потому готова пойти за фашистскими агитаторами. Не так уж много для нее писали: ничего, кроме пропагандистских брошюр. В ее среде есть восприимчивые элементы. Кроме того, есть глубинные слои народа, к которым трудно пробиться извне, они до сих пор не присоединились к коммунистическому движению, отгорожены от него и могут впасть в вялую покорность или неопределенное недовольство. Больше никого: крестьяне не читают больше, чем в 1914 году, но слишком мало, чтобы принимать их в расчет, пролетариев держат под замком. Факты не внушают оптимизма, но надо принимать их как они есть.
Во-вторых: как подключить к реально читающей публике этих потенциальных потребителей литературы? Книга обладает значительной инерцией, она затрагивает того, кто ее открыл, но не может открыться сама собой. Дело не в упрощении – этим мы бы только опошлили литературу, вместо того, чтобы уберечь ее от рифов пропаганды, заставили бы напороться на них. Следует использовать новые средства, они уже известны и достаточно действенны: американцы уже придумали для них словечко масс-медиа.
Это лучший способ завоевания новой публики: периодическое издание, радио, кинематограф. Конечно, нам придется отказаться от чрезмерной разборчивости. Книга – самая утонченная и древняя форма литературы, к ней так или иначе мы будем возвращаться. Но искусство телевизионных и кинематографических сценариев, газетных передовиц и репортажей тоже относится к литературе. Нет нужды вульгаризировать, упрощать, ведь кино, по своей природе, обращено к массам, оно показывает их судьбу. Радио застает людей за едой или в постели, в те минуты, когда они беззащитны, ведут органическое существование. Оно ловит момент, чтобы их одурачить, но ведь можно затронуть их искренность: они еще не начали разыгрывать роль или перестали этим заниматься. Мы имеет влияние в этой сфере, теперь осталось только научиться говорить образами, идеи своих книг нужно изложить на новом языке.
Я не говорю об адаптации наших произведений для экрана или радио. Нужно специально для них писать. Упомянутые трудности связаны с тем, что радио и кино – техника. Они невозможны без больших финансовых затрат, поэтому они сегодня под контролем государства или безымянных и консервативных обществ. Когда эти организации обращаются к писателю, то он думает, что нужна его работа и ему остается только хорошо выполнить ее. В действительности, платят только за его подпись. Но писатель обычно не соглашается продать одно без другого, поэтому от него добиваются, чтобы он хотя бы нравился и этим принес доход акционерам или способствовал укреплению государственной политики. Но в обоих случаях его при помощи статистики убеждают, что плохие произведения имеют больший успех, чем хорошие. Поскольку теперь он знает о плохом вкусе публики, то ему остается только подчиниться ему. Когда произведение закончено, для полной уверенности, что оно находится на самом низком уровне, его отдают в руки посредственностей. Они выбрасывают из него все, что лучше этого уровня. Вот с этим и надо бороться.
Писатель не должен унижаться, чтобы понравиться. Он обязан воспитывать общественный вкус, стараться повысить запросы публики и понемногу привить ей потребность читать. Нам не следует путем внешних уступок становиться необходимыми. Желательно использовать легкий успех и сплотить наши ряды, а потом, пользуясь беспорядком в государственных службах и некомпетентностью некоторых продюсеров, использовать это оружие против них.
И тогда писатель окажется в новой ситуации. Он будет общаться в темноте, с людьми, которых не знает. Он до этого с ними никогда не говорил, ну, может быть, лгал им. Теперь его голос будет служить их гневу и заботам. Через него люди, никогда не видевшие себя ни в одном зеркале, привыкшие улыбаться и плакать вслепую, не видя своего отражения, вдруг окажутся перед своим изображением. Кто сможет сказать, что литература при этом что-то потеряет? Мне кажется, что она только выиграет. Целые числа и дроби, когда-то бывшие всей арифметикой, сегодня составляют только малый раздел математики. Так же и с книгой. Если "тотальная литература" когда-нибудь увидит свет, то у нее будут свои иррациональные числа, алгебра, мнимые величины. Это ерунда, что промышленность не имеет никакого отношения к искусству. В сущности, типография – тоже промышленность. Писатели прошлого завоевали ее для нас. Я не думаю, что мы ограничимся только "масс-медиа". Но было бы неплохо начать ее завоевание для наших наследников. В противном случае, можно не сомневаться, что, если мы откажем от использования этих средств, то нам придется согласиться с перспективой писать только для буржуа.
Ознакомительная версия.