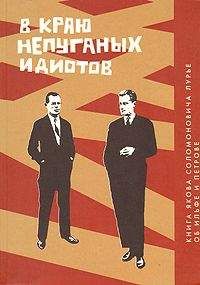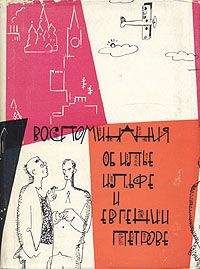Но Ильф умер «на пороге», а не в самый разгар «великого террора». Уже после смерти Ильфа были репрессированы А. Зорич, читавший писателям выговор за «Золотого теленка», В. Просин, бросивший в Ильфа последний «кирпич», Владимир Нарбут, поэт и директор ЗИФа, где печатались оба романа, критики И. Макарьев, А. Селивановский, Д. Мирский, писатели Б. Пильняк, Н. Заболоцкий, В. Киршон, Б. Ясенский, М. Кольцов, И. Бабель, друг и лучший иллюстратор Ильфа и Петрова К. Ротов, жена Э. Багрицкого — Л. Багрицкая. Арестованы были почти все дипломаты, с которыми соавторы имели дело во время путешествия, немецкие коммунисты, с которыми Ильф встречался в Остафьеве; арестованы миллионы других — не писателей, не художников, не дипломатов, а обыкновенных граждан.
Пережить все эти исчезновения и связанные с ними страхи и ожидания пришлось уже одному Петрову — без Ильфа. И Петров не выдержал.
Переломным моментом его биографии можно считать 1938 год, когда был устроен третий и самый страшный из «больших процессов» — процесс Бухарина, Рыкова, Ягоды и других. На этот процесс опять откликались писатели, и среди них не только А. Толстой, А. Фадеев, П. Павленко, Л. Леонов, Л. Соболев и т. п., но и Всеволод Иванов, Юрий Тынянов, Евгений Шварц, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, иностранцы И.-Р. Бехер, X. Лакснесси другие. А Евгений Петров? Он удостоился особой чести: получил возможность присутствовать на самом процессе. Он видел, как подсудимый Крестинский, дипломат и предшественник Сталина на посту генерального секретаря партии, отрекся на процессе от прежних показаний, а на вопрос Вышинского, почему же он оговаривал себя на следствии, ответил: «Вы знаете, почему я сознавался»; он слышал, как на новом судебном заседании Крестинский отказался от первого заявления и вновь признал свою вину. Для Евгения Петрова процесс Бухарина имел особое значение — ведь главный подсудимый был именно тем человеком, чье благосклонное внимание к «Двенадцати стульям» заставило критиков прервать длительное молчание о книге и заметить ее существование. «Я видел лица, покрытые смертельной бледностью, слышал слова, жалкие слова, которые, кстати сказать, даже в этот последний момент иногда вызывали у публики иронический смех…» — писал Е. Петров в «Литературной газете», и таковы были, вероятно, его действительные впечатления. Но далее: «Какое счастье, что этот тяжелый кошмар, наконец, кончился, что талантливейшему, честнейшему товарищу Ежову, которому, работая днем и ночью, задыхаясь в испарениях яда, приготовленного бухариными и ягодами, удалось схватить за горло скользкую гадину, сжать это подлое горло, швырнуть гадину на скамью подсудимых!»[291]
Свою книгу об Олеше А. Белинков озаглавил «Сдача и гибель советского интеллигента». В какой-то степени сдача Евгения Петрова и его гибель как писателя определялась личными свойствами, отличавшими младшего соавтора от старшего. О различных характерах Ильфа и Петрова и спорах между ними рассказывал и Эренбург:
В воспоминаниях сливаются два имени: был «Ильфпетров». А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович был застенчивым, молчаливым, шутил редко, но зло, и как многие писатели, смешившие миллионы людей — от Гоголя до Зощенко, — был скорее печальным… А Петров любил уют; он легко сходился с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа… Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось, чтобы все было лучше, чем на самом деле…
Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел:
— А стоит ли вообще писать роман? Женя, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибался и что в Сибири растут пальмы…[292]
Такие же упреки Ильфа приводятся и в воспоминаниях самого Петрова: «Женя, вы оптимист собачий».[293] А в «Одноэтажной Америке» Петров даже описал ссору со своим соавтором (не указав, однако, повода, вызвавшего ее) — «с криками, ругательствами и страшными обвинениями» (Т. 5. С. 503). Константин Ротов (отбывший два лагерных срока и доживший до 1959 г.) вспоминал о разногласиях между соавторами определеннее: по его словам, оптимизм одного из авторов и пессимизм другого проявлялся и в политических взглядах. Ильф, например, не верил в правдивость показаний подсудимых на вредительских процессах.
Склонность к самообману становится одним из самых опасных человеческих свойств в трудные времена. С весны 1937 г. Евгений Петров, как и другие советские писатели, оказался под таким давлением, которого не испытывали их собратья прежде, даже в годы «великого перелома». И Петров не остановился на обязательных формулах, произнесенных «сквозь зубы», но пошел дальше по пути капитуляции. После смерти Ильфа он совсем отошел от прежних литературных жанров, перестал писать рассказы и фельетоны и выступал главным образом как очеркист. Летом 1937 г. он ездил на Дальний Восток и на Колыму;[294] осенью 1939 г. был военным корреспондентом на только что занятой Западной Украине и написал очерки «Как польские офицеры сожгли два села» и «Подлинная демократия» (о выборах в Верховный Совет от новоприсоединенных земель), в начале следующего года он отправился в той же роли на финский фронт (очерк «Подвиг орденоносной дивизии»). Уже в начале 1939 г. Сталин решил приободрить писателей, избежавших уничтожения в предшествующие годы и с тревогой ждавших дальнейших репрессий. 31 января группа «успевающих» писателей была награждена орденами; Евгений Петров попал в число получивших высшую награду — орден Ленина.[295] Вступление в партию открыло ему путь к дальнейшему продвижению.[296] Он стал редактором журнала «Огонек», вошел в редакционную коллегию «Литературной газеты» и «Крокодила». Постепенно он стал ощущать себя официальным журналистом — подобием своего предшественника по «Огоньку» и бывшего покровителя Михаила Кольцова.
В какой степени сам Евгений Петров ощущал происшедшую с ним метаморфозу? Люди, вспоминавшие о его редакторской и журналистской деятельности в 1937–1942 гг., пишут о нем с большой теплотой: став редактором, он не превратился в вельможу, а, напротив, старался на этом посту принести как можно больше пользы, помогал молодым юмористам (например, А. Раскину и М. Слободскому), с прежним пылом бичевал равнодушие, глупость, бюрократизм. Ничего экстраординарного он, очевидно, не ощущал и в своих корреспонденциях с Западной Украины и с финского фронта: ведь то, что он писал и говорил, говорили и писали все, во всяком случае все, кто мог говорить и писать в Советском Союзе.
Дважды Е. Петров пытался вернуться к сатирическому жанру. Если в его музыкальных сценариях, увидевших свет экрана («Музыкальная история», «Антон Иванович сердится»), фигурировали лишь второстепенные сатирические персонажи (шофер Альфред Тараканов, композитор Керосинов), то в сценарии «Беспокойный человек», написанном, как и два предыдущих, вместе с Г. Н. Мунблитом, но не поставленном, сатирическая тема занимала едва ли не центральное место. Действие «Беспокойного человека» развивается в обычном клубе, подобном тому, который описывался прежде Ильфом и Петровым в фельетоне «Для полноты счастья» (Т. 3. С. 265–270).
Клуб новый, недавно выстроенный, но на его парадной двери приколочена надпись «Ход со двора».
Клуб, как водится, украшен плакатами: «Уважайте труд уборщиц!», «Больше внимания разным вопросам!», «Поднимем клубную работу на высшую ступень!», «Ударим по срывщикам клубной работы!». Во главе клуба стоит некий Гусаков, буфетчицей работает его жена; всеми делами заправляет жулик и вор, комендант Драпкин. Попытки новой директорши клуба, молодой выпускницы философского факультета Наташи Касаткиной, изменить положение наталкиваются на хорошо организованное сопротивление всей этой компании. Когда она предлагает снять глупые лозунги, Гусаков многозначительно возражает («после зловещей паузы»): «Надпись-то политическая». Не ограничиваясь этим, Гусаков выдвигает против Касаткиной обвинения — политические и уголовные (мотив этот стал возможным после падения Ежова, когда в печати стали обличать «клеветников и перестраховщиков»): «Гусаков, по обыкновению в подтяжках и кепке, высунув язык, сочиняет донос. Делается это при помощи на редкость невинных орудий — тоненькой школьной ручки и чернильницы-невыливайки».
Сцена писания доноса — пожалуй, самая яркая в сценарии. В основном же он представляется довольно бледным отражением фельетонов середины 1930-х гг., и прежде всего близкого по теме фельетона «Для полноты счастья». Но в фельетонах Ильф и Петров, выступая против равнодушия и глупости, высказывали свои авторские эмоции, но отнюдь не изображали зло уже поверженным и побежденным; в сценарии же добродетель наглядно и решительно торжествовала над пороком.